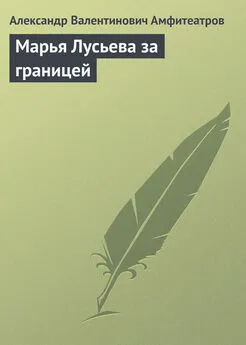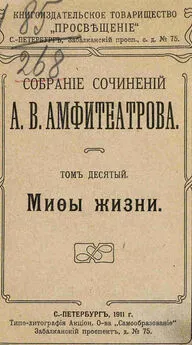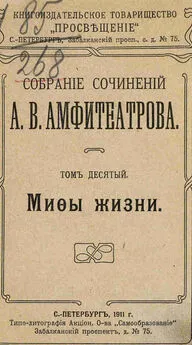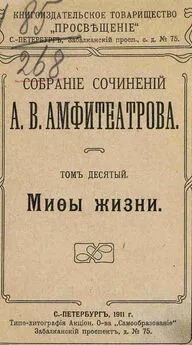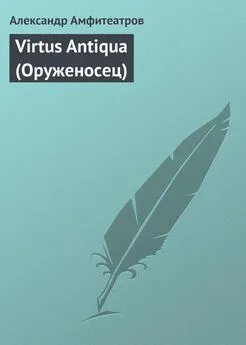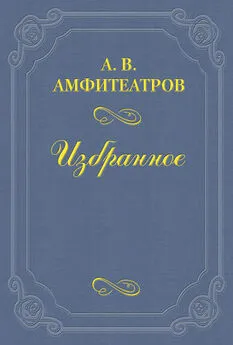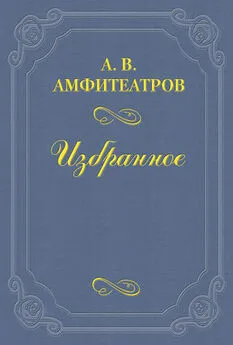Александр Амфитеатров - Марья Лусьева за границей
- Название:Марья Лусьева за границей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Амфитеатров - Марья Лусьева за границей краткое содержание
Ночное небо было, не в обычай этому злополучному городу, сине и ясно. Луна висела над готическими колючками собора, подобно желтому апельсину, одиноко позабытому на разрушенной рождественской елке. С тоскливою отчетливостью темнели в вышине бесчисленные статуи громадного здания, похожего, в густой синеве неба, на береговой утес у тихого моря, облепленный, на отдыхе в перелете, серыми стаями, торчком на хвостике, спящих птиц. Галерея Виктора Эммануила безмолвствовала, пустынная и печальная от безлюдья, ослепшая от закрытых ставень в магазинах, конторах, ресторанах и кафе. Только у Кампари еще ярко светились огни и горела за опущенными гардинами бессонная страстная ночь…»
Марья Лусьева за границей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, – жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.
«Женитесь на мне!» – подхватила, с наглым видом, молчавшая дотоле в углу ее приятельница. – «Если я буду женою, я буду сидеть вот как!» При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.
Смысл этой угрюмой сцены показался бедняге Пискареву настолько оскорбительным и несправедливым, что он кончил жизнь самоубийством… Жаль бедного Пискарева: понапрасну погиб он, а течение века показало, что и справедливость-то была не на его стороне, а на стороне той, которая сказала ему:
– Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.
Что, в переводе на язык цифр, значит:
– Я не имею желания нажить в течение десяти лет каторжного труда преждевременную ревматическую или слепую старость, голодая и холодая на поденной плате в два двугривенных или… неизбежно прирабатывая тем самым промыслом, из которого вы желаете меня извлечь.
Не буду останавливаться на этой теме, ибо мне нечего прибавить к ее развитию после «Женского настроения» и послесловия к «Марье Лусьевой», читавшихся достаточно много, чтобы надо было повторять здесь их основные положения. Еще десять лет назад меня за них упрекали, как изверга какого-нибудь, в бесчувственности и безнравственности. В настоящее время эти положения – только что не общие места! Так быстро идет и творит жизнь, так, в несколько шагов, обгоняет она того, кто в нее всматривается!
Я думаю, что в скором времени должен появиться в России литературный художник, который напишет проститутку, как цельный человеческий образ, без той исключительной прямолинейности и дидактической планомерности, которая до сих пор превращала в «отвлечения» даже лучшие опыты этой живописи. Думаю потому, что уж очень много литературной мысли работает за последнее десятилетие в этом направлении и слишком много литературных сил пробует себя на загадках этого «бытового явления», пытаясь дать его синтез. Театр заполнен проститутками. Андреев, Шолом Аш, Юшкевич, Трахтенберг, Найденов, Протопопов, Фоломеев – вот сколько авторов дало русской театральной публике образы новой проститутки! Покуда она никому не удалась и не удается. Но кому-нибудь удастся. Потому что это литературно нужно, по этому образу тоскует неудовлетворенная совесть века, и скорбное любопытство коллектива не сегодня-завтра перельется-таки в индивидуальный талант, который ответит на долгий вопрос еще неведомым, но уже ожидаемым и подготовляемым словом. Если мы вглядимся в историю литературных произведений, сыгравших по разным вопросам русской культуры большую ответную роль («Отцы и дети», «Анна Каренина», театр Чехова, «На дне», «Поединок»), удивительна своевременность их появления, удивительна естественная быстрота, с которою созревшему общественному вопросу откликается созревший художественный ответ.
Очень я завидую этому будущему и скорому художнику, потому что придется ему творить на почве, в которую я, на своем веку, уложил немало внимания и наблюдения, но как публицист-аналитик по натуре, так и не набрался смелости для попытки заключить свои наблюдения художественным синтезом. Теперь же, кроме того, и условия жизни, и возраст отстранили меня от этой темы, и я, собственно говоря, с нею расстаюсь. Но думаю, что, – кто бы ни был тот настоящий художник, которого ждет проституционный вопрос, – два тома «Марьи Лусьевой» послужат ему небесполезным подготовительным и поверочным подспорьем как накопление сплошь фактического материала, «человеческих документов». Много последних остается еще неиспользованными в бумагах моих, и я рад буду со временем передать их хорошему молодому писателю, который захочет ими заняться. Многое же успело уже состариться, так что – в быстро бегущем движении нашей жизни – годится уже скорее для историка нравов, чем для художника, творящего современность.
Жизнь и быт европейской проститутки, если они не приукрашены сантиментальными и слезоточивыми измышлениями апологетического свойства (например, пошлейшая и противнейшая, сплошь солганная «Жизнь падшей» буржуазнейшей Маргариты Бэме или пресловутая «Кларисса»), – гораздо голее, суше, проще и психологически грубее жизни просттутки русской. Особенно в странах католических, где частая исповедь не дает женщине подолгу оставаться наедине с своею совестью, а, следовательно, вынимает из жизни тот религиозно-психологический фермент, который составляет и счастье, и несчастье Сони Мармеладовой. «Поэзия», хотя бы и «отрицательного типа», которой так много подметили русские литераторы в русской проститутке, у западной чувствуется лишь постольку, поскольку она, в промысле своем, скользит по границе преступления, а в этих случаях она, обыкновенно, не самостоятельна, но является лишь тенью мужчины.
Вследствие этой прямолинейности в западной торговле развратом многие страницы «Марьи Лусьевой за границей» стоили мне гораздо большего труда, чем соответственные страницы «Марьи Лусьевой» первой. Итальянская, французская, австрийская проститутка говорит со спокойною деловитостью о таких щекотливых эпизодах своего промысла, признание в которых еще заливает багровою краскою лицо уличной женщины с Невского проспекта или Дерибасовской улицы. Я, без всякого ложного стыда, признаюсь, что многое в этом томе могло бы быть рассказано гораздо ярче и подробнее, и полагаю, что у меня достало бы на то способностей, но – то и дело перо опускалось, и тяжелое впечатление тянуло многое замолчать, многое вуалировать. Не ради лицемерной скромности, а потому, что зрелище ряда опустошенных жизней вводило такую скорбь в душу, что казалось жутким и напрасным переливать ее в души читателей.
Мне столько доставалось на веку моем за парадоксы противоположений, что – одним больше, одним меньше – все равно. Вот:
– Латинский разврат страшен тем, что он совсем не страшен.
Он улыбается и считает, – и это более жутко для «славянской души», чем весь вой Сенной, притворный хохот Невского проспекта, мечтательное безумие Насти, истерика купринской «Ямы» (прекрасная реалистическая вещь, покуда не резонерствует в ней неумный болтун репортер) и холодный вызов андреевских «Христиан»… За воем, хохотом, истерикою, холодом самобытного отрицания вы не перестаете чувствовать живого человека. Этого-то вот здесь и нету… Слова избитые и опошленные – «жертва общественного темперамента» – приобретают здесь гораздо более страшное и антисоциальное значение, потому что в русской проституции они почти всегда определяют процесс, еще творящийся, в латинской-завершенный до конца. «Я торгую собой» – в России – до сих пор трагедия, а в Милане, Ницце, Париже – только… вывеска ходячего магазина, лавки или рыночного лотка, гладя по разряду. Из русской или еврейской проститутки проклятый промысел выгрызает душу всю жизнь, до старости, – и то еще остается ее довольно, чтобы до гроба дразнить и мучить женщину утраченною чистотою. Латинская проститутка в большинстве случаев становится к промыслу уже смолоду с опустошенной душой. Или еще того вернее, спрятав куда-то душу впредь до востребования ее на каком-нибудь другом житейском поприще. В промысле она – существо страшное и опасное. Если ей везет, она горда и надменна. В ней просыпается bella e onesta cortigiana [8] Прекрасная и честная куртизанка (фр.).
, привилегированная старой Венецией. Если счастье ей изменяет, она озлоблена, свирепа, плаксива, преступна. Она может быть очень жалка, но по самочувствию она счастливее нашей проститутки. У нее нет отравляющего жизнь стыда самой себя, а стыд промысла регулируется исключительно тем, как относится к ней среда, в которой она вращается. Крестьянские девушки северной Италии, попавшие в проституцию с дозволения своих родителей, возвращаются в деревни весьма гордыми невестами и пользуются таким же почетом и ухаживанием, как будто они свои приданые заработали земледелием, шитьем либо бакалейною торговлею. Все покрывающая фамильность буржуазного уклада, – может быть, от римской «отцовской власти» предание свое ведущая, – как бы берет на себя ответственность за своих дочерей предлюдьми, а дело попа – уладить мир между совестью и Богом. Благодаря всему этому латинская проститутка стоит гораздо выше других европейских сестер как представительница класса, но производит довольно низменное впечатление, с точки зрения той исторической морали, которую мы немножко гордо и самонадеянно называем общечеловеческою. Это – одна из причин, почему в своем нынешнем «обозрении» европейской проституции (главным образом, латинской, так как германская мне мало известна) я выбрал, в качестве commère [9] Кумушка, сплетница, болтунья (фр.).
, не итальянку или француженку, но латинизованную «славянскую душу».
Интервал:
Закладка: