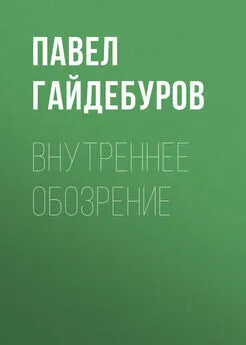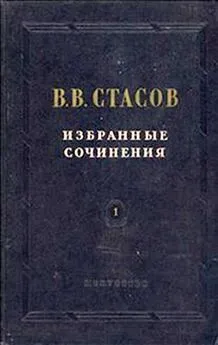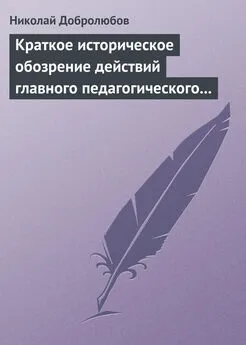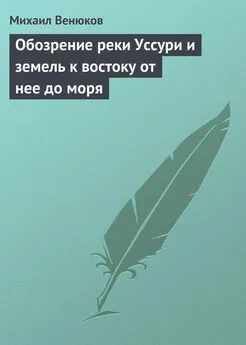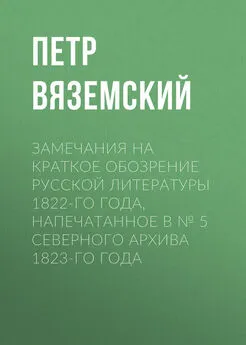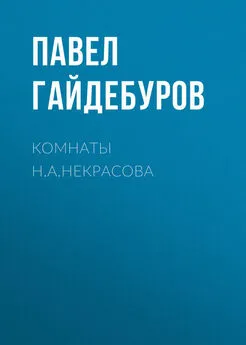Павел Гайдебуров - Внутреннее обозрение
- Название:Внутреннее обозрение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Гайдебуров - Внутреннее обозрение краткое содержание
Внутреннее обозрение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А между тем было время, когда наша общественная жизнь представляла такие явления, которые действительно имели вполне общественный характер. Все мы знаем, например, что несколько лет назад, когда журналистика серьезно заговорила о важности народного образования, общество приняло самое живое участие в деле народных школ; когда зашла речь о необходимости разумного образования для женщин, то скоро не осталось почти ни одного губернского города, в котором не было бы женской гимназии; открытие, например, «Общества для пособия нуждающимся литераторам» сопровождалось такими многочисленными заявлениями сочувствия к литературе неё деятелям, пожертвования сыпались в таком количестве, что этому движению нельзя было не придать характера вполне общественного; журналистика пользовалась таким всеобщим и сознательным уважением, что его никак нельзя было считать чем-то случайным, скоропреходящим; всякая публичная ложь и инсинуация порицались с таким откровенным негодованием, которое невозможно было заподозрить в неискренности или придать ему совершенно исключительный, частный характер. Словом, общество русское представляло тогда резко очерченную физиономию, насчет характера которой не могло существовать двух мнений. Приютом оно представлялось активной массой, которая не сама подчинялась всякому встречному, но подчиняла себе других.
Прошло пять-шесть лет, – и картина совершенно изменилась. Прежняя добродетель начала считаться чуть не пороком; то, что прежде подвергалось единодушному порицанию, начинает снова выступать на сцену и авторитетно провозглашать свои сомнительные доблести; молчавшие прежде органы печати заговорили, говорившие прежде – замолчали. Все стало делаться как-то на выворот, отрицая и порицая недавно минувшее; настала пора – не утомления (это бы еще ничего, это бы свидетельствовало, по крайней мере, о живучести общественного организма), а пора озлобленной ломки того, что еще недавно было насаждено и не успело дать никаких видимых результатов. В обществе началась крутая и суровая реакция, в подробности которой входить еще слишком рано. Но подобное превращение, совершившееся в такое короткое время, невольно вызывает всякого на размышление: что же это такое? где же настоящие, действительные симпатии нашего общества? увлекалось-ли оно тогда, пять-шесть лет назад, или увлекается теперь? Теперь или тогда было оно более похожим на самого себя?
Припоминая общий характер конца пятидесятых годов, нельзя не обратить внимания на то, что эти годы предшествовали манифесту 19 февраля, положившему начало великой социальной реформе в нашем отечестве. Общество было совершенно не подготовлено к тому, что его в скором времени ожидало. Дело подготовления взяла на себя наша периодическая печать, в лице лучших её представителей. Правительство ясно сознавало, что направление тогдашней журналистики совершенно совпадало с его ближайшими видами, и потому не препятствовало довольно свободно проявляться этому направлению. Таким образом, оно несло в себе двоякого рода силу: силу таланта и мысли литературных деятелей и силу отрицательного покровительства со стороны высших властей; отсюда – сила того влияния, какое оно имело с одной стороны на молодое поколение, с другой – на всю массу читающего общества. Нетрудно понять, каким образом действо пало это направление на публику; нельзя сказать, чтобы она ясно понимала все то, о чем говорила журналистика, потому что последняя стояла во всяком случае несравненно выше первой; но если публика не могла основательно ознакомиться с частностями нового направления, за то вполне усвоила себе общий его характер; публика чувствовала, что готовится нечто новое, до тех пор невиданное и неслыханное, что печать усваивает себе тон самостоятельный, самоуверенный – и мало помалу начала бессознательно подчиняться этой силе, имевшей основание в той реформе, которая со дня на день ожидала своего осуществления в жизни; это новое направление действительно имело в себе что-то деспотически-обаятельное для всякого; но это был деспотизм нравственной силы, которая глубоко действует только на людей свежих, неиспорченных, какими и была действительно молодая часть нашего читающего общества.
Теперь естественно представляется следующий вопрос: почему же результаты этого направления, так гармонировавшего с правительственными реформами, не успели проявиться вполне, а как-то заглохли и исчезли большею частью бесследно? Положим, та часть общества, которую крестьянская реформа застала уже в немолодых летах, могла впоследствии одуматься от своего временного увлечения и пойти по прежней дороге; но что же сталось с более молодою частью, которая, конечно, принимала ближе к сердцу тогдашнее направление и живее ему сочувствовала? Что она сделала в эти пять-шесть лет, по прошествии которых она естественно стала более прочно в обществе? Отвечая на этот вопрос, мы по необходимости должны заметить, что направление, о котором мы говорим, имело довольно значительные недостатки, неразлучные, впрочем, с того ролью, которую ему приходилось играть в обществе: оно только развивало читателей давая им при этом слишком мало знаний , и предполагало эти знания существующими, когда их на самом деле вовсе не существовало. Поэтому многие смотрели на новое направление слишком неправильно, относились к нему слишком легко, наивно предполагая, что все его отличие от прежних заключается в одной внешней стороне, что стоит только сказать: «я последователь такого-то направления,» чтоб быть действительным его последователем, Подобные взгляды и произвели то, что в суждениях таких последователей явилась поверхностность, которая впоследствии не могла устоять перед напором противоположных воззрений, подкрепленных более основательным знанием фактов жизни.
Крестьянская реформа совершилась. Напряженное состояние общества было удовлетворено чтением манифеста 19 февраля 1861 года. Многие, и даже большая часть людей, сочувствовавших новому направлению, решили, что дело выиграно. Началось практическое осуществление начал, провозглашенных манифестом 19 февраля. Открылась деятельность мировых посредников, их съездов и губернских по крестьянским делам присутствий; пошли разверстания угодий, уставные грамоты, добровольное и обязательное соглашения. Спрашиваем теперь, кто из лиц, так горячо сочувствовавших крестьянской реформе, знаком хотя сколько-нибудь с «Положением о крестьянах» – кто, кроме, разумеется, мировых посредников, да некоторого числа помещиков? Кто, кроме этих же самых лиц, следил за тем, как осуществлялся в жизни манифест 19 февраля? Кто может ответить на наш вопрос, в каком положении находится крестьянское дело в настоящую минуту? Кто ответит нам, если мы спросим, почему «Положение о крестьянах» в одних местах применялось более или менее успешно, чем в других; в чем заключались причины тех многочисленных столкновений между помещиками, крестьянами и мировыми посредниками, о которых в свое время заявлялось иногда в газетах? Смело утверждаем, что никто . Кроме мировых посредников и некоторого числа помещиков, вряд-ли можно насчитать сотню или две людей в целой России, которые имели бы ясное понятие о положении этого громадного и важнейшего для нас вопроса. Понятно, таким образом, что из этого следует то, что люди, так горячо сочувствовавшие крестьянской реформе, или сочувствовали ей только на словах, по моде, или же ожидали от неё сразу таких блестящих результатов, что их постигло разочарование, когда они увидели, что результаты не могли соответствовать их ожиданиям. На разочарованием естественно последовало охлаждение к делу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: