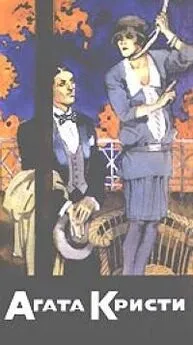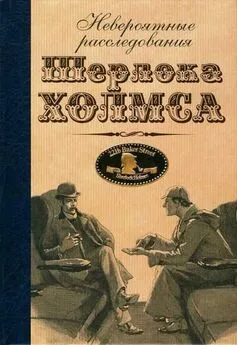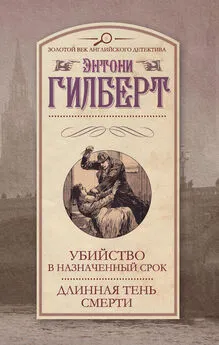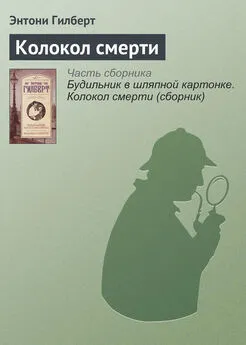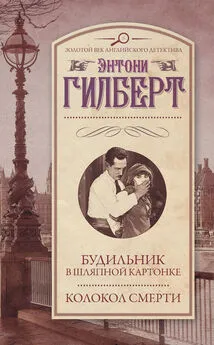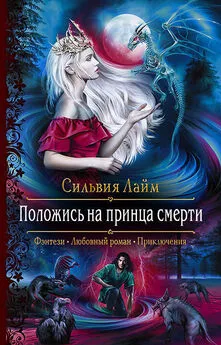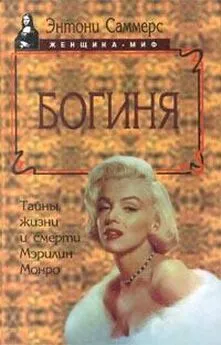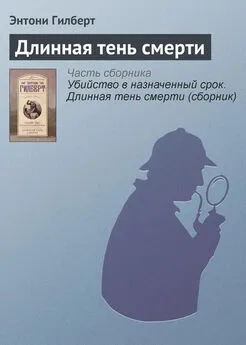Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее
- Название:Открытие смерти в детстве и позднее
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвия Энтони - Открытие смерти в детстве и позднее краткое содержание
Первоначальная версия книги вышла в свет еще в 1940 г. и с тех пор неоднократно переиздавалась в Западной Европе и США, по сей день оставаясь широко востребованной практикующими психологами, психиатрами и социологами многих стран. Настоящее издание является пересмотренным и увеличенным автором и основано на ее дальнейшем практическом опыте. С. Энтони исследует процесс детского восприятия смерти, анализируя, как смерть фигурирует в детских играх, сновидениях, раздумьях, и проводит многочисленные исторические и психофизические параллели, отмечая сходство реакции современных детей на смерть со старинными и даже доисторическими ритуалами.
На русском языке публикуется впервые.
Перевод: Татьяна Драбкина
Открытие смерти в детстве и позднее - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ни гоблин, ни бесчестный враг
Не приведут его в уныние,
Ибо он знает, что в конце концов
Стяжает Жизнь.
Тогда оставят его заблуждения и слабости,
Не станет он бояться мнения других,
А будет трудиться день и ночь,
Как надлежит пилигриму [207] .
В период около 1900-го взрослые, казалось, стали получать удовольствие от зрелища ребенка, играющего с идеей смерти. С детьми разучивали стихи, где тема смерти была основной, – возможно, отчасти потому, что альтернативная тема секса считалась неприличной. Госсе [208] рассказывает о собственном детстве:
[ПИ 32] На этой вечеринке… было предложено, что наши юные друзья доставят старшим удовольствие, прочитав какие-нибудь милые вещички, которые они знают наизусть. Соответственно, одна маленькая девочка прочла «Касабьянку», другая – «Нас семеро». Потом вызвали меня… Без колебаний я встал и громким голосом начал декламировать одно из моих любимых мест из «Могилы» Блэра:
«Если бы смерть была ничто, и ничто не ожидало нас после,
Если бы, умирая, люди тут же переставали существовать,
Возвращаясь в пустое чрево небытия,
Откуда каждый некогда вышел, тогда распутник…» [209]
«Спасибо, милый, очень хорошо!» – прервала меня на этом леди в кудряшках.
Репертуар школьника того времени включал «Поражение Сеннахериба» Байрона («Ассирияне шли, как на стадо волки» [210] ), «Горациуса» Маколея (Macaulay, «Horatius» («Нет смерти лучше, чем в неравной схватке» [211] ) и «Похороны сэра Джона Мура в Корунне», а также стихотворение о битве при Бленхайме, в котором «гвоздем программы» был череп, найденный на месте битвы маленькой Вильгельминой, – то, что они вместе с ее младшим братом были героями сочинения, явно делало его особенно подходящим для юных читателей [212] . Передача темы смерти в ведение поэзии, особенно когда речь шла о битвах давних времен, способствовала вытеснению её у взрослых и стимулировала тот же процесс у детей. Многие «милые вещички», превратившись в пародии, попали в коллекции детского непристойного творчества, – особенно «Касабьянка» [213] .
Рифмованные насмешки над смертью заполонили в то время и взрослое литературное пространство. В первом десятилетии двадцатого века появились «Предостерегающие истории» Беллока (Belloc, «Cautionary Tales») и «Безжалостные стишки» Грэма (Graham, «Ruthless Rhymes»). На сознательном уровне они представляли реакцию на сентиментальное отношение к смерти в таких произведениях, как «Хижина дяди Тома» и «Лавка древностей». Ныне их можно рассматривать также как проявление бессознательного вытеснения – механизма, под влиянием которого истерик переходит от слез к смеху, отказываясь иметь дело с реальностью. Литературный скачок от слащавой чувствительности к поразительной невозмутимости отношения к смерти особенно ярко проявился у детей и в связи с детьми.
Маленькая Ева в «Хижине дяди Тома», маленькая Нелл в «Лавке древностей», Августус и Гарриет из «Растрепы» [214] , а также герои многих стихов Беллока и Грэма – все умерли в детстве. За сентиментальной беллетристикой, за шутливыми, хотя и мрачными предостережениями доброго немецкого врача, за эдвардианской игривостью [215] скрывался факт чрезвычайно высокой детской смертности. Очень многим родителям приходилось пережить смерть своих детей или сиблингов, когда они сами были детьми. Смерть матери при родах также была обычным делом во всех социальных слоях. Для иллюстрации достаточно обратиться к авторам, которых я цитировала: мать Руссо умерла при его рождении; Данте, Паскаль, Вольтер, Вордсворт, Дарвин, Джордж Макдональд и Госсе потеряли матерей до того, как им исполнилось девять лет. Мать Гиббона умерла, когда ему было десять; он был старшим из пяти братьев и сестры, и все они умерли во младенчестве. Ранний биограф выражает мнение своих современников по поводу утраты тех, с кем, если бы они выжили, было бы разделено семейное наследство: «их кончина должна была облегчить обстоятельства жизни нашего автора, и, как нам представляется, он вполне отдает себе отчет в милостях, дарованных ему Провидением» [216] .
В таких условиях дети обычно узнают о смерти из непосредственного опыта в кругу родителей, сиблингов, тетушек, дядюшек и кузенов. Невозможно не отнести этот опыт ко всем людям и к себе в частности. Простая положительная связь между смертью и старостью исключена. В предисловии к своей детской книги Джейнуэй обращается к родителям: «Неужели души ваших детей не имеют Значения?.. Они не слишком малы, чтобы умереть, не слишком малы, чтобы отправиться в ад» [217] . То, что написанные тогда для детей книги подчеркивали непосредственное отношение смерти к самим детям, было в согласии не только с религиозным духом того времени, но и с фактами смертности.
По мере того, как менялась религиозная атмосфера и уменьшалась детская смертность, выпуском детской литературы все больше занимались миряне. Морализирование постепенно исчезало, смерть устранялась с центральной позиции. Безусловно, в волшебных сказках, заимствованных из фольклора и предлагавшихся в качестве детского чтения на протяжении девятнадцатого столетия (которые прежде дети узнавали в непосредственном устном пересказе от родителей или слуг), много говорится об убийствах и смерти. Но в таком контексте это имеет для ребенка отдаленность фантазийных образов, которые подчиняются механизмам фантазии и служат ее задачам. Однако в изложении Андерсена или Лэнга (Lang) даже народные сказки выглядели более приятно, нежели у братьев Гримм, само имя которых [218] могло казаться подходящим для тех, кто предпочитал их стиль и материал.
Религиозным образованием также в большой мере занялись миряне. В Англии Закон об Образовании 1944 г. ввел его в официальную программу государственных школ. Согласно недавним исследованиям, большинство родителей маленьких детей вполне удовлетворены таким положением дел. Но следует отметить, что в обществе, где религиозная толерантность традиционно и конституционально высоко ценится, соединение религиозной свободы и обязательного религиозного образования школьников требует как высокого социального развития, так и немалой щепетильности.
Эта глава посвящена тому, чему и как учили детей по поводу смерти в течение последних столетий в контексте культуры Западной цивилизации. Приводимые в других главах примеры поведения детей, получающих соответствующее обучение, можно рассматривать как дополнительный комментарий, но и здесь будут даны некоторые иллюстрации, непосредственно отсылающие к содержанию обучения. На самом деле такие иллюстрации необходимы, поскольку они показывают: ребенок часто реагирует явно неожиданным для учителя образом. Шарлотта Бронте, вероятно, опиралась на воспоминания собственного детства, когда описывала реакцию мятежной Джейн Эйр, десяти лет, на вопрос, знает ли она о том, что после смерти грешники идут в ад и что ей следует делать, чтобы этого избежать. Джейн ответила: «Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть». [ПИ 33а]. Среди наших собственных записей имеется совершенно независимый пример реакции ребенка меньшего возраста на традиционное обучение:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: