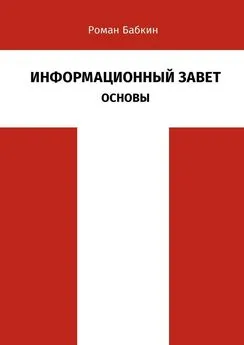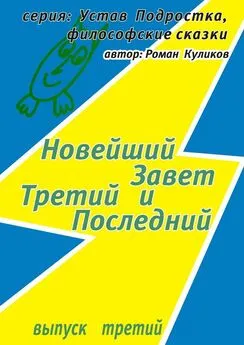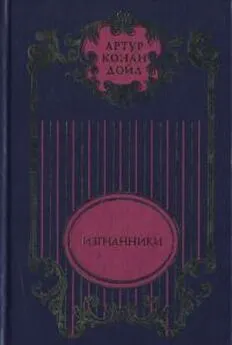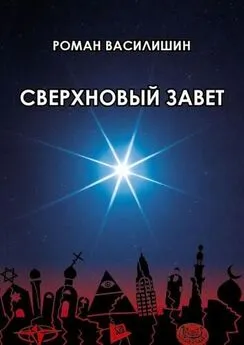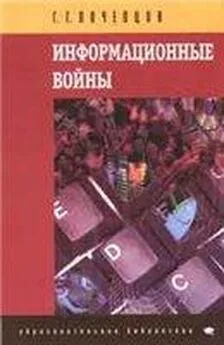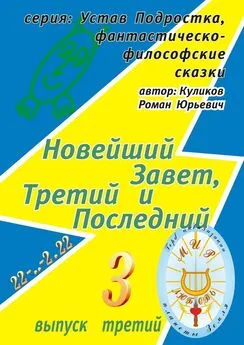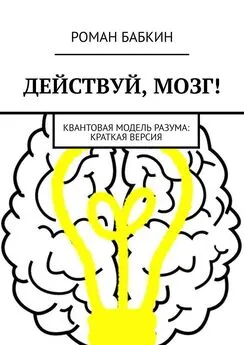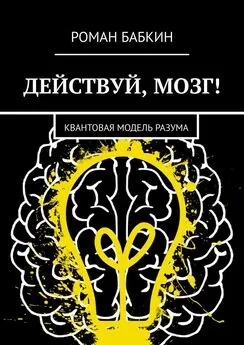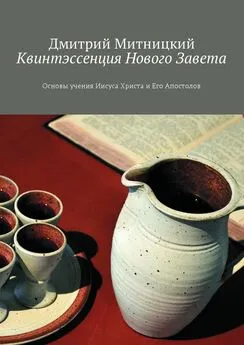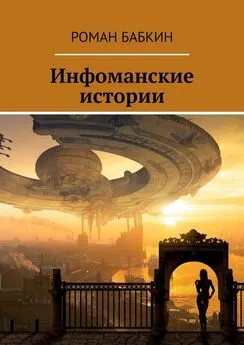Роман Бабкин - Информационный Завет. Основы. Футурологическое исследование
- Название:Информационный Завет. Основы. Футурологическое исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449652447
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Бабкин - Информационный Завет. Основы. Футурологическое исследование краткое содержание
Информационный Завет. Основы. Футурологическое исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Для чего человеку речь? Как она возникла и почему усложнилась?
Антропологи объясняют так. Группой выжить легче, чем поодиночке. Сплоченность группы зависит от степени коммуникации между её членами. Обмен звуковыми сигналами – простейший способ общения у многих животных. Он был и у австралопитеков. Дальше – естественный отбор. У наших предков звуковой обмен был развит лучше, поэтому было больше шансов выжить и передать полезный признак (голосовой аппарат) потомкам 15,16,32 .
Некоторые лингвисты склонны преувеличивать значение звуковой коммуникации. Что не удивительно, ведь буквенно-фонетические комбинации – их хлеб. Оставаясь на почве реальных фактов, следует подчеркнуть: главное в коммуникации – мозг, а не речь сама по себе 6 .
Следовательно, история коммуникации есть история человеческого мозга. Экспертиза генетического материала останков древних гоминидов позволяет утверждать: H.sapiens с его уникальным мозгом возник около 150—200 тысяч лет назад. Вероятно, какое-то время (века? десятки веков?) сосуществовали две ветви нашего вида. Неандертальцы и кроманьонцы. И те, и другие имели большой головной мозг. Первые были физически крепче, выносливее. Но вторые оказались умнее. Судя по всему, они обладали более продвинутой коммуникацией. И попросту съели конкурентов. В прямом и переносном смысле 7,41 .
Поскольку подавляющее большинство специалистов по антропогенезу уверенно говорят о принципиальной схожести мозга кроманьонцев и человека, живущего в наши дни, можно предположить следующее. У людей, существовавших 40 тысяч лет назад, были те же мозговые функции, что и у нас. А именно: мышление, память, воображение, сложные эмоции и, конечно, речь. Самое любопытное заключается в том, что эти функции, как в совокупности, так и по отдельности, – избыточны.
Так что, речь – следствие избыточности человеческого мозга.
Приведённое выше разделение коммуникации на невербальную и вербальную целиком основано на идее прогресса. Мол, сначала из нечленораздельного мычания возникла устная речь, одновременно или немного погодя – внутренняя речь, и, наконец, появляется письменная речь, которая преподносится как наивысшее эволюционное достижение человека в коммуникации. Из этого следует характеристика невербального общения, включая обмен картинками, как регрессивного и даже ущербного. Такая оценка далеко не нова 20 .
Это ошибка.
Существуют убедительные доводы в пользу другого объяснения. Не вербальный диалог, а внутренний монолог является наиболее поздним эволюционным приобретением . Тогда последовательность развития речи иная: устная – письменная – внутренняя.
Объёмы информации, перерабатываемые мозгом, растут на протяжении всей истории человечества. Поэтому поначалу достаточно было обмениваться звуками (внешняя устная речь). Затем потребовалось вводить знаки – пиктограммы, идеограммы, буквы (расширение внешней речи – письменность). Теперь мы имеем дело с множеством смыслов, которые надо не только быстро передавать, но и оперативно перерабатывать (совершенствование внутренней речи – поиск более ёмких форм коммуникации).
Такое объяснение согласуется с положением об избыточности мозга и тезисом об увеличении интенсивности информационного обмена.
Если широкий функционал клеток мозга существует уже, по крайней мере, 40 тысяч лет, то вопрос формы коммуникации вторичен. Буквы, картинки – какая разница? Древнейшая из существующих национальных цивилизаций, китайская, до сих пор использует графические символы, обозначающие и звуки, и смысл.
Таким образом, коммуникация определяется доступным нам средством производства информации, а его выбор – насущной потребностью в переработке извлекаемых сведений. В таком случае этапы развития человеческого общения выглядят так:
1. Фонокоммуникация (средство производства – голосовой аппарат)
2. Фотокоммуникация (средство производства – зрительный аппарат)
3.?
Звук и буква – не единственные инструменты коммуникации. Речь – не самая эффективная форма общения. А что тогда? Что вписать в третьем пункте вместо знака вопроса?
Почему лингвисты ошибаются
Большинство языковедов не согласятся с моим взглядом на коммуникацию. Ведь язык есть буквенно-фонетический способ общения. Который они тщательно изучают всю свою жизнь.
Заблуждение о превосходстве национального языка над прочими формами коммуникации и о том, что он будет всегда, укоренилось глубоко. Истоки этого недоразумения следует искать в истории лингвистики.
Лингвистика как научная дисциплина возникла в индустриальную эпоху 1 . И унаследовала главные принципы индустриального осмысления реальности, как то: индуктивизм, линейное (географическое) мышление, антропоцентризм, утилитаризм. Однако своим возмужанием языкознание обязано, конечно, Фердинанду де Соссюру ( Ferdinand de Saussure ).
Полагают, что главная заслуга Соссюра состоит в разграничении категорий языка и речи. В действительности гипотеза учёного была более радикальной. Сопоставив язык и речь, Соссюр сделал вывод, что первое важнее второго 23 .
Между прочим, Фердинанд де Соссюр аргументировал свой тезис, ссылаясь на некоторые неврологические факты. Но, к сожалению, интерпретировал их неверно.
Соссюр называл язык «наиважнейшей из знаковых систем» и предостерегал от исследования речевых актов в ущерб изучению буквенно-фонетических систем. Таким образом, он дал смысл жизни нескольким поколениям лингвистов. Если язык важнее речи, то на факты, добытые нейронауками можно вообще не заморачиваться.
Тезис Соссюра об объективной природе фонетического языка эволюционировал в концепцию лингвистического детерминизма ( linguistic determinism ), развитую в 30—40х гг. прошлого века представителями когнитивной лингвистики или дескриптивизма ( american structuralism ). Концепция постулировала подчинённость когнитивных категорий и поведения человека его языковым конструкциям. Иными словами: как говорим, так думаем и живём.
А с 1957 года берёт начало генеративная лингвистика ( generative grammar ), где предположение Соссюра о наличии в мозге «языковой способности общего порядка» трансформировалось в идею врожденного грамматического знания 26 . Её автор – самый влиятельный лингвист второй половины XX века Ноам Чомски ( Noam Chomsky ).
Даже сейчас, в XXI веке, идея о наличии в нашей голове встроенной языковой схемы тревожит воображение исследователей. Таков, к примеру, лингвист и когнитивный психолог Стивен Пинкер ( Steven Pinker ). В книге «Язык как инстинкт» ( The Language Instinct , 1994 год), он излагает, в сущности, очередную реинкарнацию гипотезы Чомски. С одной стороны, Пинкер совершенно верно критикует лингвистический детерминизм, замечая, что утверждение «мышление и язык – одно и то же» неверно. С другой стороны, лингвист постулирует наличие в мозге каждого человека универсального мыслекода, который переводит мысль в звуки и знаки какого-либо национального языка. По мнению Пинкера, мыслекод подобен протоколу передачи данных в вычислительном устройстве. При этом исследователь никак не разъясняет, почему головной мозг должен функционировать именно как обычный компьютер (цифровой или аналоговый) 19 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: