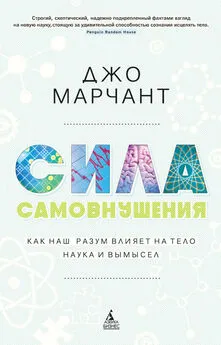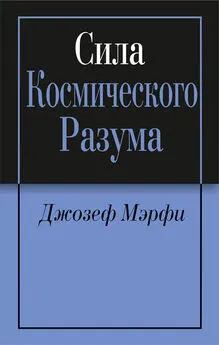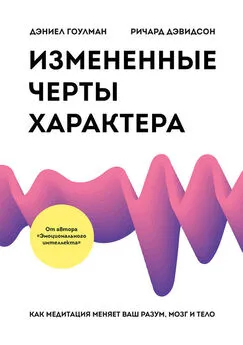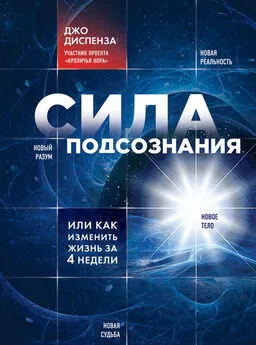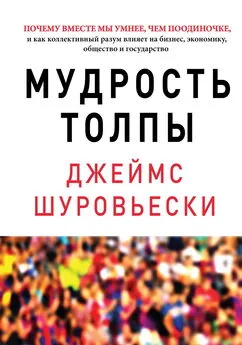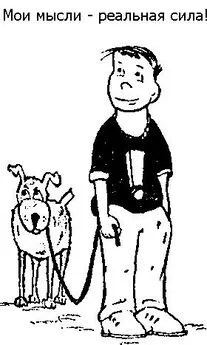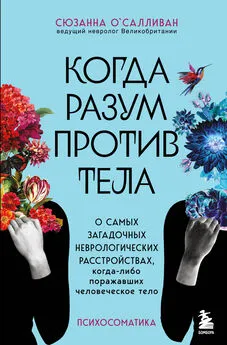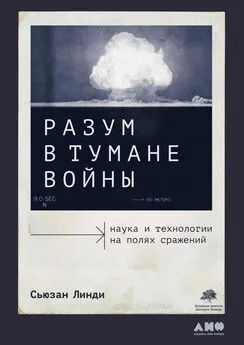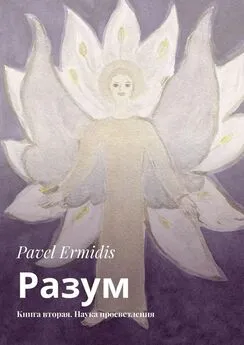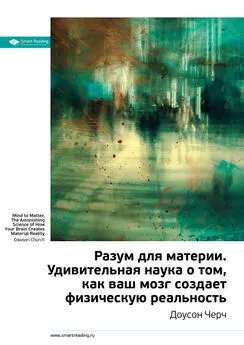Джо Марчант - Сила самовнушения. Как наш разум влияет на тело. Наука и вымысел
- Название:Сила самовнушения. Как наш разум влияет на тело. Наука и вымысел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аттикус
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-389-12439-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джо Марчант - Сила самовнушения. Как наш разум влияет на тело. Наука и вымысел краткое содержание
Но вот парадокс: именно серьезные ученые, видные представители многих областей науки, экспериментально доказали, что мысль, эмоция, вера способны принести самую что ни на есть реальную пользу здоровью: снять симптомы недуга, повысить иммунитет, снизить риск тяжелого заболевания…
Эта книга – путеводитель по широкому полю идей, от гипноза до медитации, от плацебо до позитивной визуализации. Опираясь на результаты новейших исследований, Джо Марчант очищает эти идеи от лженаучной шелухи – и знакомит читателя с основанными на них методами самоисцеления, которые действительно работают.
Сила самовнушения. Как наш разум влияет на тело. Наука и вымысел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Споры о том, является СХУ соматическим или психологическим расстройством, по-прежнему горячи. В июне 2014 года два академика из Эссекской службы СХУ/МЭ при университетской больнице Саутенда, Соединенное Королевство, разместили на веб-сайте «Британского медицинского журнала» статью о том, что СХУ может оказаться «мемом» {111}. Этот термин был введен генетиком Ричардом Докинзом в его книге «Эгоистичный ген» («The Selfish Gene»), увидевшей свет в 1976 году. Он обозначил идею или поведение, которые передаются от человека к человеку.
Авторы статьи заявили, что к мемам можно отнести целый ряд известных в истории патологических состояний – например, травматическую истерию (railway brain – дословно «железнодорожный мозг»): сочетание усталости и психиатрических симптомов, которыми страдали железнодорожные пассажиры XIX века (когда железные дороги были в новинку) и приписываемых невидимому поражению мозга, вызванному тряской. Авторы не исключают, что некоторые аспекты СХУ распространяются таким же путем в качестве мемов.
Мгновенно поднялся шум, статью потребовали опровергнуть. Ассоциация «МЕ» написала, что ее члены шокированы, разгневаны и встревожены таким предположением. В онлайновых комментариях к статье больные СХУ обвинили авторов в «невежестве, нетерпимости и откровенной жестокости», а их идеи назвали «чудовищными», «извращенными» и «совершенно безумными» {112}. Спустя несколько дней Эссекская служба СХУ/МЭ написала в «Ассоциацию миалгической энцефалопатии» письмо, в котором дистанцировалась от статьи и заявила, что авторы «глубоко сожалеют об огорчении, ею вызванном».
Уайт считает, что проблему, как обычно, создает господствующий в медицине менталитет, рассматривающий болезни как явления либо биологические, либо психологические. «Такое дуалистическое представление о сознании и теле присуще подавляющему большинству врачей, – говорит он. – Если разладилось сознание – ступайте к психиатру, если тело – к врачу общей практики». Это деление оставляет больным СХУ всего две возможности: либо заболевание имеет соматическую природу, в настоящее время неизлечимо и совершенно не зависит от психологических факторов, либо они ипохондрики и все от начала до конца выдумали. Неудивительно, что они становятся в защитную позу.
Уайт утверждает, что деление, в сущности, необоснованно. Сознание и тело неизбежно взаимодействуют и отражают друг друга. «Психологическое телесно, а телесное воспринимается психологически». Ученые все чаще обнаруживают, что такие психические расстройства, как шизофрения и депрессия, отражают структурные нарушения в головном мозге, тогда как неврологическая патология вроде болезни Паркинсона сопровождается не только соматической, но и психологической симптоматикой.
Уайт отмечает, что КПТ, хотя и считается часто психотерапией, вызывает соматические эффекты. По данным ряда исследований, курс КПТ приводит к измеримому увеличению мозгового вещества, а также влияет на уровень таких гормонов стресса, как кортизол.
Он утверждает, что если взгляды на эту проблему станут гибче, то больные СХУ перестанут бояться ярлыков и признают взаимосвязь соматических и психологических факторов их недуга. Синдром хронической усталости – расстройство не сугубо соматическое или психологическое. Оно имеет двойственную природу.
С тех пор как Саманта избавилась от СХУ, прошло два года. «Я делаю больше, чем многие сверстницы, – сообщает она, макая пиццу в хумус. – Я приехала сюда на велике. Мне несложно подобрать аксессуары в тон!» Но она по-прежнему должна соблюдать осторожность. Длинный велопробег или сверхнагрузка на работе могут спровоцировать возвращение симптомов. «Нужно уметь расслабляться ментально и физически», – говорит она.
Теперь Саманта, когда нездорова, берет больничный и умеет говорить обстоятельствам «нет». Неполный день работает арт-терапевтом, занимаясь гончарным делом с заключенными и психиатрическими больными, страдающими биполярным расстройством и шизофренией. Трудясь над глиной, они, по ее словам, могут спокойно поговорить. «Если беседа не клеится, можно сразу вернуться к глине».
Она еще и художник-декоратор {113}. Например, у нее есть серия работ, где старые предметы – куклы, сосновые шишки, черепа животных – искусно встроены в узорные рамки. Ей нравится спасать когда-то драгоценные, а ныне ненужные сокровища, даруя им новую жизнь и смысл. Кроме этого, она пишет воображаемые пейзажи – например, лабиринты больничных коек и арочных окон, выдержанные в индустриальном стиле, в черных и кроваво-красных тонах, куда вплетены первые строчки стихотворения Томаса Гарди «Дрозд в сумерках»: «Вокруг сгущался призрак тьмы, и, стоя у плетня, глядел я, как отстой зимы туманил око дня» [2].
Оно заканчивается, конечно, радостной песней дрозда – символическим «гимном надежде» средь смертного мрака зимы.
Глава 5. В трансе
Я нахожусь на севере Англии, стою в маленькой больничной палате. На койке держится за живот молодая мама. Она задыхается, стонет и пребывает в ужасе.
Эмме 21 год, ее сынишка дома. У нее светлые волосы, на шее – серебряный амулет. Рядом сидит ее мать. Гладя дочь по руке, она смотрит на врача огромными голубыми, полными отчаяния глазами. Вид у нее такой, будто она много недель не спит.
Эмма держит под боком пурпурную грелку; рука покраснела от жара, но девушка не отнимает ее. Она стонет и вертится, пытаясь облегчить боль. Пробует сесть на край постели, затем подается вперед и тяжело дышит, прикрывая ладонью лицо.
«Охххх, – мычит она и виновато поднимает глаза. – Простите, ради бога, но это что-то немыслимое. Все хуже и хуже». Страдая от боли, схваток и тревоги, Эмма похожа на роженицу. Вот только ребенка нет. И так каждый день.
Мы находимся в манчестерской больнице Уитеншоу, и это обычное утро в клинике консультанта Питера Уорвелла. После Эммы он навещает Фрэзера, мужчину под пятьдесят с диагнозом «застойная кардиомиопатия» – заболеванием сердца, от которого в возрасте сорока с лишним лет умер его отец, а теперь оно способно в любую секунду убить и Фрэзера.
Но он здесь не поэтому. Он говорит, что в силах справиться с болезнью сердца – в худшем случае его оживит имплантированный дефибриллятор. Его депрессия и отчаяние вызваны другим – стойкой, неуправляемой диареей. Фрэзер показывает Уорвеллу фотографию замаранных джинсов. Он надел их к приходу гостей и весь вечер простоял спиной к стене, пока все не разошлись.
Потом наступает черед 38-летней Джины, она в клинике впервые. «Рассказывайте», – приглашает Уорвелл, и Джина говорит с полчаса. Боль в животе возникла, когда у Джины, в возрасте 18 лет, родилась дочь. Сначала было непонятно, какой природы эта боль – гастроинтестинальной или гинекологической. В 27 лет Джина перенесла гистерэктомию, а следом – несколько операций на кишечнике, но симптоматика неуклонно утяжелялась. Теперь женщина страдает от сильнейших запоров. Она принимает десять разных препаратов, включая слабительные и мощные анальгетики, но они не помогают. Стула так и нет, пока она не прибегает к гелю с лидокаином и клизме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: