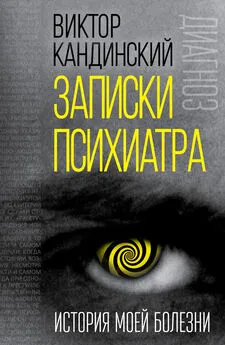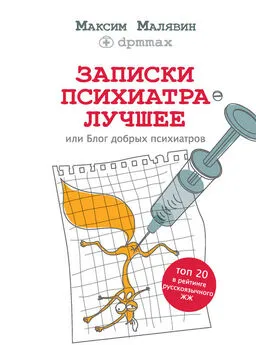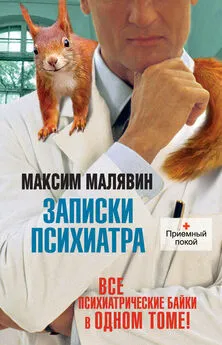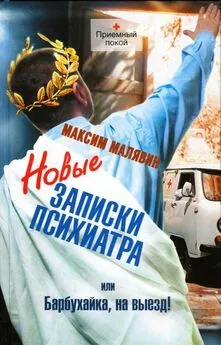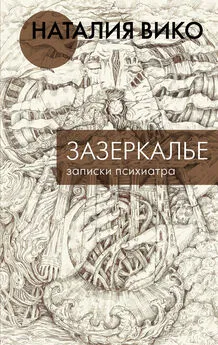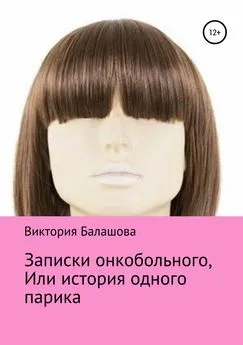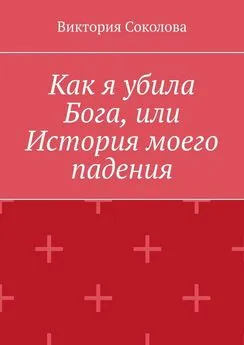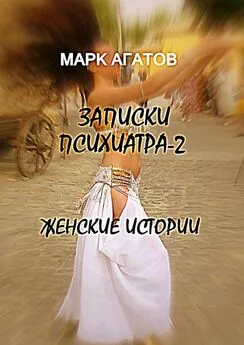Виктор Кандинский - Записки психиатра. История моей болезни
- Название:Записки психиатра. История моей болезни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907024-82-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Кандинский - Записки психиатра. История моей болезни краткое содержание
Жизненный подвиг Кандинского состоял и в том, что, страдая от приступов периодического психоза, он в периоды улучшений точно описывал и беспристрастно анализировал не только богатый клинический опыт, но и собственные болезненные переживания.
В предлагаемую книгу вошли наиболее значимые труды ученого, представляющие широкий спектр интересов автора, его огромную эрудицию, вклад в фундаментальные вопросы психиатрии, психопатологии, судебной психиатрии.
Записки психиатра. История моей болезни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что касается Бриер де Буамона, то этот автор использует наблюдения разной степени достоверности: наряду с надежными, убедительными случаями у него фигурируют и сомнительные, и совершенно неправдоподобные. Приведение подробных цитат заняло бы слишком много места. Наблюдение № 25 вполне могло бы сойти за бред преследования (хронический психоз) со слуховыми и иными галлюцинациями, если бы автор совершенно непроизвольно не обмолвился о «лицах, одинаково видимых днем и ночью», от которых пациент якобы слышал угрозы и брань по своему адресу. Но если он постоянно видел своих преследователей перед глазами, непонятно, зачем ему понадобилось искать их «за занавеской, в шкафу и под кроватью» 11. Чуть ли не все авторы, не только французы, но и немцы, цитируют наблюдение, приводимое Буамоном под № 1 и в свою очередь заимствованное у Вигана. Наблюдение это совершенно неправдоподобно. Слова больного: «Я принял этого человека в своей душе» вовсе не дают права заключить о наличии галлюцинаций. Вернее всего, речь идет просто об очень ярком воспоминании. Правда, тут же говорится, что больному, художнику по профессии, не нужно было поворачивать голову, чтобы сверить позу своей мнимой модели. Но означает ли это, что имела место истинная галлюцинация? Трудно поверить, чтобы сложные зрительные галлюцинации с заранее заданным конкретным содержанием можно было бы вызвать у себя по собственному желанию, в любой момент, да еще распоряжаться по своему усмотрению галлюцинаторными образами, например, заставлять мнимого человека садиться в реально существующее кресло, принимать разные позы и т. п. Не менее странным кажется утверждение автора, будто больной поведал ему о своих необыкновенных способностях после того, как провел в лечебнице добрых тридцать лет, причем обо всем этом времени, если не считать последних шести месяцев, у пациента не осталось никаких воспоминаний. В каком бы он ни был состоянии, навряд ли по истечении 29 с половиной лет он мог остаться в здравом уме и памяти. Во всяком случае принять за чистую монету все рассказы больного о событиях тридцатилетней давности невозможно. Скорее, нужно представить себе дело таким образом, что художник еще до болезни развил в себе способность вызывать в памяти настолько живые образы, что ему нетрудно было воспроизводить их на полотне; впоследствии же, проболев тридцать лет и впав отчасти в состояние вторичного слабоумия, он вполне мог дать повод Вигану усмотреть наличие галлюцинаций там, где их в действительности не было. Принять на веру все, о чем больной рассказал Вигану, значило бы согласиться и с теми случаями, приводимыми Бриером, которые смело можно отнести «к области предчувствий и духовидения» (Гаген), но уж никак не к галлюцинациям.
О том, что получается, когда одни и те же истории болезни переписывают из книги в книгу, насколько при этом искажаются факты, говорит следующий случай: имя автора, у которого Бриер де Буамон заимствовал историю болезни художника, в работе Готье де Боваллона превратилось в имя самого больного! Боваллон пишет: «Когда передо мной оказывается модель, говорит художник Виган…» и далее: «Виган видел лишь те части кресла, которые не были закрыты сидящим человеком» 12.
Следует указать, что Бриер вообще не видит разницы между галлюцинацией и фантазией: его определение галлюцинации («восприятие чувственных знаков идеи») таково, что охватывает, очевидно, и галлюцинации в собственном смысле слова, и мои псевдогаллюцинации, и даже обычные воспоминания и образы чувственной фантазии.
«В литературе о галлюцинациях отвлеченных рассуждений гораздо больше, чем конкретных данных», – говорит Зандер 13. И действительно, контраст между обилием теорий и скудностью точных клинических наблюдений бросается в глаза. «Теориям нет числа, каждый автор предлагает новое толкование, и в конце получается, что сколько авторов, столько и концепций» 14. Правда, в некоторых случаях расхождения не столь существенны, однако встречаются и полностью противоречащие друг другу теории.
Знакомясь с литературой о галлюцинациях, поскольку эта проблема меня живо интересует, я убедился, что имеющийся казуистический материал нуждается в серьезной проверке. Такая задача мне не по силам. Однако мне представилась возможность накопить достаточное количество собственных наблюдений на основе богатого клинического материала психиатрической больницы св. Николая в Петербурге, а также благодаря некоторым другим обстоятельствам. В частности, я располагаю весьма ценными, на мой взгляд, наблюдениями слуховых галлюцинаций. В своей статье о галлюцинациях слуха я не мог, не рискуя сбить с толку читателя, останавливаться на явлениях, близких к галлюцинациям, но принципиально отличных от них. Этому вопросу будет посвящена настоящая работа. Мне особенно приятно, что я получил, наконец, возможность ответить на вопрос, заданный мне д-ром Шюле: чем объясняется появление так называемых псевдогаллюцинаций и что обусловливает их «объективность»? 15Интерес, проявленный к этой проблеме д-ром Шюле, одним из моих немецких учителей, послужил толчком для настоящей работы. Предлагая ее взыскательному читателю, я позволю себе заметить, что явления, описанные мной под именем «псевдогаллюцинаций», имеют, как мне кажется, прямое отношение к патогенезу галлюцинаций в собственном смысле слова.
К вопросу о невменяемости 16
Magna est veritas et praevalebit 17 .
К вопросу о формулировании в новом уложении о наказаниях статьи об условиях вменения 1883 г
Предлагаемое вниманию читателей «Особое мнение», читанное доктором В.X. Кандинским в заседании Общества психиатров в С.-Петербурге 18-го февраля 1883 г., не вошло в свое время в протоколы Общества частью по своему размеру, частью, может быть, и по каким-нибудь другим соображениям; не вошло оно также и в «Вестник клинической и судебной психиатрии и невропатологии», несмотря на то, что по мнению д-ра А.Е. Черемшанского, бывшего тогда секретарем Общества, «обсуждение редакции 36-й статьи составляло видное событие в жизни психиатрического и юридического обществ в С.-Петербурге», так что нелишне «занести было сведение об этом событии в страницы „Вестника Психиатрии“». (Черемшанский А.Е. Неспособность ко вменению перед судом психиатров и юристов // Вестн. Псих. Г. первый, вып. I). При несколько запоздалом появлении «Особого мнения» в печати в настоящее время необходимо указать, по какому поводу и при каких обстоятельствах оно было написано. Для этого позволяю себе привести выдержки из Отдела критики и библиографии «Вестника судебной медицины» (Т. IV, отд. V, стр. 1 и сл.), где это изложено с достаточною подробностью. А именно, д-р Л.Ф. Рагозин, разбирая только что упомянутую статью д-ра А.Е. Черемшанского, говорит между прочим следующее:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: