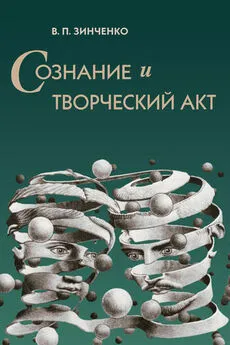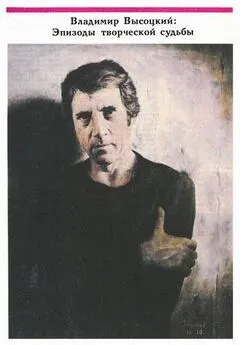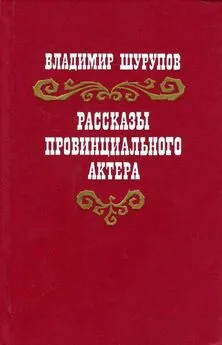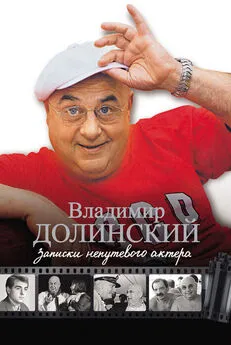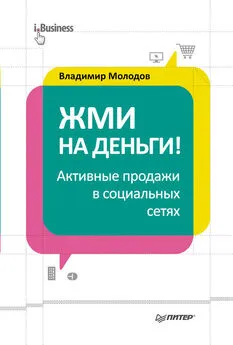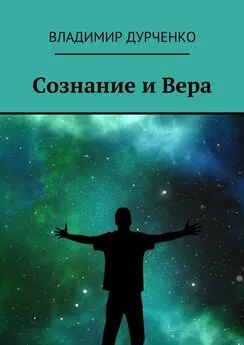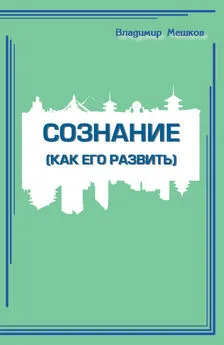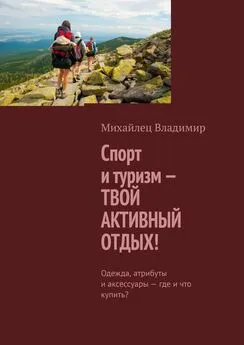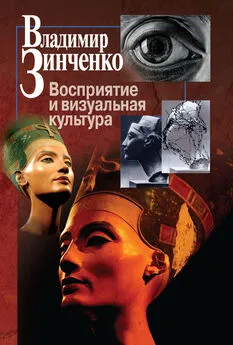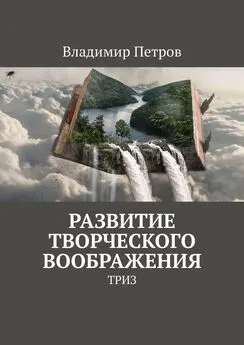Владимир Зинченко - Сознание и творческий акт
- Название:Сознание и творческий акт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2010
- Город:М.
- ISBN:978-5-9551-0437-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Зинченко - Сознание и творческий акт краткое содержание
В книге широко представлены традиции обсуждения проблем сознания и творчества, а также прозрения замечательных поэтов.
Книга предназначена не только профессионалам-психологам, но и широкому кругу обладающих сознанием читателей, думающих и понимающих, что сознание – это серьезно, а творчество – это и есть жизнь.
Сознание и творческий акт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне важно подчеркнуть, что действие, мысль, сознание строят и держат свое временное пространство, когда это не удается, так или иначе адаптируются к текущему времени. Если человек не творит свое время, оно полностью подчиняет себе его. Наука, не без влияния идеологии, называет это социализацией личности. Конечно, можно было бы назвать это чистейшим вздором, что, кстати, было бы вполне справедливо, поскольку социализация до сих пор остается практикой, пренебрегающей индивидуальностью. Р. М. Рильке следующим образом пишет о начале социализации:
Тебя, как нитку новую, вдевали
в чреду картин, где ты очнулся в срок,
но быть самим собой уже не мог.
Уже поздно: время утрачено! И он же о ее итоге:
Взрослый народ – неживой, никакой, деревянный —
Взрослое время в воловьей упряжке тянул.
Индивидуация, как минимум, должна дополнять социализацию, а лучше – противостоять ей. Мысль, конечно, не новая. В частности, она артикулировалась В. В. Кандинским, анализ творчества которого привел В. Л. Рабиновича и А. Н. Рылеву к заключению, что необходимо « проложить , например, новый путь от массовой культуры к культуре (культурам!) индивидуальных миров в качестве, как любят теперь изъясняться, новой парадигмы цивилизации» [Рабинович, Рылева 1999: 59]. Для начала нужно хотя бы признать не только право на существование индивидуального, субъективного мира, но и его объективность.
Путь к индивидуации, к свободе – это тяжкий труд, который за человека никто не сделает. На первых порах можно прислушаться к совету Р. Фроста и удлинять поводок между собой и социумом:
Смейтесь: я просрочил обещанный уход.
Связан с вами, хотя и не прибился к стаду.
Пониманию не обойтись без острот,
Но и мятежа мне приписывать не надо.
Для действия (а мысль – тоже действие) три координаты времени столь же важны, как координаты пространства. Иное дело, как действие обращается с пространством и временем. Вернемся к Рильке, описывающему движение Орфея:
Впереди – стройный человек в синей накидке,
Уставясь в тупом нетерпеньи, прямо перед собой.
Его шаги пожирали дорогу крупными кусками,
Не замедляя ход, чтоб их пережевать…
Знакомая картина! То же и с пожиранием времени, когда живущие, по словам поэта, не делаются переживальщиками. Переживание превращает существование в жизнь, в бытие. А это особая работа души, для которой требуется время:
… жизнь
в сущности есть расстояние между сегодня и
завтра, иначе будущим. И убыстрять свои
шаги стоит только, ежели кто гонится по тропе
сзади: убийца, грабители, прошлое и т. п.
Строки поэта относятся не только к спешащему Орфею. Бродский уподоблял время платью , а если так, то его нужно шить по мерке и не слишком – на вырост: Пренебрежение этим – пагубно. Это сюжет и В. Л. Рабиновича, рассматривающего «Авангард как нескончаемое начало». К нему же относится и большевистско-советский, пара-социальный, пара-культурный эксперимент – попытка обогнать время, обштопать естественный ход событий: «Вспомним катаевское “Время вперед!”, “Пятилетку в четыре года”, “Белый квадрат” “светлого будущего”, оставившего страну без будущего и – как утопию – в нигде. Так время, как выпавшее из самого себя, совпало с пространством в нигде (=утопии). И потому и то и другое (купно) аннигилированы навсегда и навезде в наказание за никогда и за нигде – за пятилетку в четыре года, за Октябрьскую революцию в ноябре , за шолоховское черное солнце над страной (в занебесье), за платоновский “Котлован” в подземелье; за апофеозы бесконечно случайных встреч, взломавших все причинно-следственные связи в нормальном времени и упорядоченном пространстве (“Доктор Живаго”)… За бесчетные – ив самом деле гоголевские “дни без числа”»[Рабинович, Рылева 1999: 45]. К этому можно добавить: за «Нам нет преград…», за знамя, которое «Мы пронесем через миры и века…», за абсурдную последовательность, как будто начертанную Д. Хармсом: «Соберем и посеем и вспашем». А главное: за «… нечего терять, кроме своих цепей» ( и совести, если на то пошло , – добавил И. Бродский), т. е. за убогость духа и пустоту души. Прыжок из царства необходимости в царство свободы оказался подобен попытке преодолеть пропасть в два прыжка. О. Мандельштам резонно заметил: «Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить» [Мандельштам 1987: 172]. Время действительно не любит удил. Оно требует переживания, осознания и, как действующее лицо – уважения и вежливого обращения.
Мы видели, что сюжет о различиях между проживанием, переживанием, прозябанием, существованием не оставляет поэтов. О. Мандельштам как бы поясняет:
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!
Примерам нет числа. Далеко не каждый может повторить вслед за великим тружеником В. Хлебниковым: Время катится недаром. Есть еще одна, предусмотренная И. Бродским, возможность – засорение времени. Известно, что имеется тесная связь между движением и временем. Такая связь есть не только в механике. Механическое движение пожирает, убивает время. Живое движение, напротив, оживляет и даже создает, строит живое время. Живое движение души может одухотворять историческое время, членить, ритмизировать его, образовывать в нем зазоры, периоды активного покоя, остановки, соединять его с пространством. Мертвящая история если не убивает душу и дух до конца, то сильно деформирует их. Чтобы не бередить душу читателя мрачными и близкими примерами, сошлюсь на Зазеркалье, превосходно изображенное Льюисом Кэрроллом: «Одно хорошо, – продолжала Королева, – помнишь при этом и прошлое и будущее». – «У меня память не такая, – сказала Алиса. – Я не могу вспомнить то, что еще не случилось». – «Значит у тебя память неважная. (…) Возьмем к примеру Королевского Гонца. Он сейчас в тюрьме, отбывает наказание, а суд начнется только в будущую среду. Ну а про преступление он еще и не думал» («Алиса в Зазеркалье»). Память самого Кэрролла, видимо, была такой же, как у его героев: он помнил и прошлые и будущие системы правосудия, в том числе и ставшие нормой в XX веке и процветающие по сей день.
Человек всегда находится в живом, жизненном времени, которое отличается от хронологического времени жизни. Жизненное время определяет и жизненное пространство, жизненный мир человека. Их зависимость, разумеется, взаимная. Художник Р. Пуссет-Дарт назвал одну из своих композиций так: «Время есть разум пространства. Пространство есть плоть времени». Не менее афористичен М. Пруст, писавший, что у пространства есть геометрия, а у времени есть психология. Вместе они составляют хронотоп, являющийся результатом и условием развития сознательной и бессознательной жизни. Хронотоп, как и все живое, упорно сопротивляется концептуализации. Его образ дал С. Дали в своих растекшихся часах на картине «Упорство памяти». Он же его и прокомментировал: «… это не только фантастический образ мира; в этих текучих сырах заключена высшая формула пространства – времени. Этот образ родился вдруг, и, полагаю, именно тогда я вырвал у Иррационального (вслед за Данте и многими другими героями этой главы. – В. 3. ) одну из его главных тайн, один из его архетипов, ибо мои мягкие часы точнее всякого уравнения определяют жизнь: пространство-время сгущается, чтобы, застывая, растечься камамбером, обреченным протухнуть и взрастить шампиньоны духовных порывов – искорки, запускающие мотор мироздания» [Дали 1998: 401]. Перед таким образом, действительно, привычные часы умирают в безмолвной печали (Р. М. Рильке) или, как у А. Блока: « Длятся часы, мировое несущее ». Не идут, а длятся. Во время такого дления порывы превращаются в текст! Или пропадают втуне! К чему время относится с олимпийским спокойствием:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: