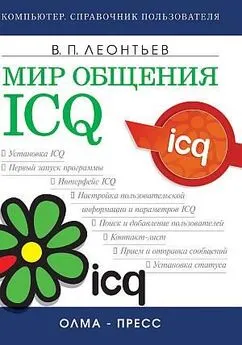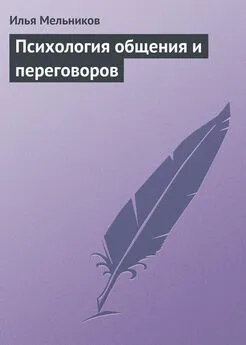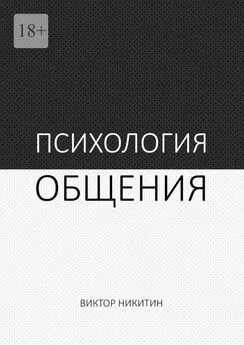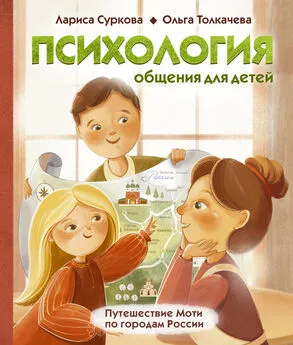Алексей Леонтьев - Психология общения
- Название:Психология общения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Смысл
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-89357-192-4, 5-7695-2065-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Леонтьев - Психология общения краткое содержание
Психология общения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Возможно, однако, и личностно-смысловое общение, вообще не использующее специальные знаковые средства с закрепленными за ними значениями и если и сочетающееся со знаковым общением, то лишь параллельно и независимо. Примером подобного общения является использование нерелевантных, некодифицированных мимико-жестикулярных средств: я могу, например, достаточно убедительно воздействовать на реципиента, лишь воспроизводя то или иное эмоциональное состояние. Такого рода смысловое воздействие широко используется в массовой коммуникации и других видах массового воздействия. Сюда же относится и так называемое суггестивное воздействие, обычно сопровождающее процессы речевого общения [81] Лозанов Г. Суггестология и суггестопедия: Автореф. дис… канд. психол. наук. София, 1969; Он же. Суггестология. София, 1972.
. Наконец, как считает Б.Ф.Поршнев, “…знаковую роль играют не только сами знаки, но и их нарочитое торможение – выразительное отсутствие…. Молчание – это не просто отсутствие речи, сплошь и рядом оно есть торможение или отмена речи или даже, можно сказать, антиречь” [82] Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1966. С. 128.
. Это тоже, по-видимому, один из видов личностно-смыслового общения.
Генетически личностно-смысловое общение предшествует знаковому. Так, очевидно, что общение, опосредованное отношением цели и средств, предполагает именно такого рода непосредственное изменение в смысловом поле.
Степень опосредованности . Это больше количественная, чем качественная характеристика – иначе ее можно определить как социальную “дистанцию”, отделяющую коммуникатора от реципиента. Иначе говоря, это – количество ступеней опосредования процесса общения, при условии тождества сообщения. Такого рода “ступени” могут выполнять в отношении общения разные функции: редактирующую, контролирующую, техническую, распространительную (как это происходит в массовой коммуникации); однако общение (скажем, текст радиорепортажа или информация в газете) сохраняет свое тождество на всех этапах от письменного стола журналиста (или магнитофонной ленты, записанной радиокорреспондентом) до почтового ящика вашей квартиры или транзистора на вашем столе. Указанная характеристика не носит в строгом смысле психологического или социально-психологического характера, она скорее социологична. Мы ввели ее исключительно для того, чтобы противопоставить ей характеристику “ориентации”. С этой характеристикой можно, видимо, соотнести понятие “прямого информационного контакта”, введенное А.И. Горячевой [83] Горячева А.И. О некоторых категориях социальной психологии//Проблемы общественной психологии. М., 1965. С. 232.
(ср. также понятие “общественного контакта” в “Капитале”).
Легко видеть, что две последних характеристики – семиотическая специализация и степень опосредованности – соотнесены со второй из фаз деятельности – фазой реализации плана деятельности. Это характеристики соответственно средств и процесса общения, в то время как два первых относились к ориентировке и планированию этого процесса. В терминах Л. Тайера, первые две характеристики касаются “стратегических” коммуникационных способностей, вторые две соответственно – “тактических”.
Заключая настоящий параграф, еще раз вернемся к тому существенному для нас положению, что знаковое общение является хотя лишь одним из видов общения, но оно не равноправно с другими видами общения: это общение наиболее развитое, наиболее специализированное как деятельность и по своим социальным (и социально-психологическим) функциям. Это заставляет нас провести специальный анализ понятия знака применительно к его роли в деятельности общения и некоторых других видах деятельности.
§ 3. Знак и деятельность
В последние годы заниматься исследованием знаковых аспектов деятельности стало более чем распространенным занятием. Однако существуют лишь единичные исследования, где знак выступает не как элемент виртуальной знаковой системы и вообще не как нечто данное в поведении (наблюдаемое), а в его реальном генезисе и реальном функционировании, как нечто заданное человеку и конституирующее его деятельность. Иначе говоря, проблема знака и деятельности или, точнее, знака в деятельности, остается почти не разработанной. Это тем более странно, что целый ряд фундаментальных для психологии вопросов, связанных, в частности, с закономерностями взаимоотношения социального и индивидуального в сознании и деятельности, с диалектикой мышления и речи и т. п., может быть успешно решен лишь на путях создания психологической теории знака.
Однако основные тенденции развития семиотики даже противоположны этому психологическому направлению. Само употребление термина “семиотика” стало своего рода сигналом, что данный автор принципиально не проводит качественной границы между знаковыми системами разных типов и в частности – между коммуникативными системами у животных и человеческим языком. Куда более оправдана позиция де Соссюра, писавшего, как известно, что семиотика, или семиология, является “частью социальной психологии, а следовательно, и общей психологии. …Точно определить место семиологии – задача психолога…” [84] Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С.40.
.
При таком понимании более чем проблематично существование зоосемиотики и правомерность разговора о коммуникативных системах животных как о “языках”, хотя и sui generis. Если пользоваться терминами Т. Сибеока [85] Sebeok T. La communication chez les animaux//Rev. int. sc. soc. 1967. Vol. XIX, № 1.
, – то вся так называемая “зоосемиотика” автоматически сводится к “зоопрагматике” – “знаки”, используемые в коммуникативных системах у животных, не имеют ни семантики, ни синтаксиса (в семиотическом смысле, да, кстати, и в любом другом). Впрочем, коммуникативные системы у животных не удовлетворяют и по крайней мере трем из пяти необходимых признаков языка, сформулированных Ч. Моррисом.
Главное отличие знакового поведения человека и коммуникативно обусловленного поведения животных лежит в совершенно чуждой современной семиотике психологической специфике “человеческого” знака. Мы позволим себе изложить это различие словами Л. С. Выготского: “До самого последнего времени… полагали, что… звук сам по себе способен ассоциироваться с любым переживанием, любым содержанием психической жизни и в силу этого передавать или сообщать это содержание или это переживание другому человеку. Между тем… для того, чтобы передать какое-либо переживание или содержание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме отнесения передаваемого содержания к известному классу,… это… непременно требует обобщения…. Таким образом, высшие, присущие человеку формы психологического общения возможны только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность” [86] Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956. С. 50–51.
.
Интервал:
Закладка: