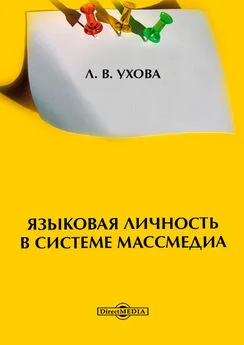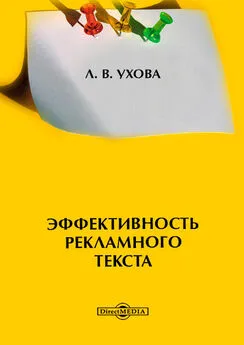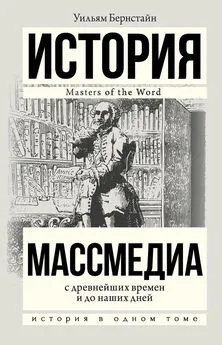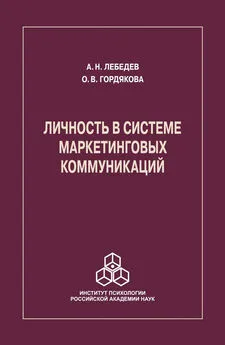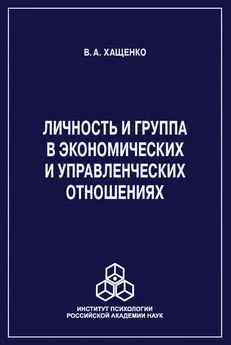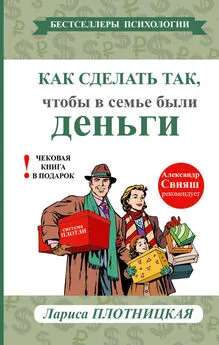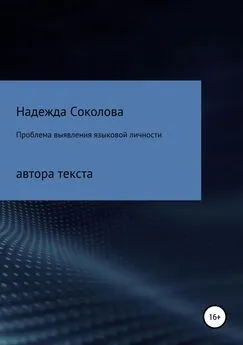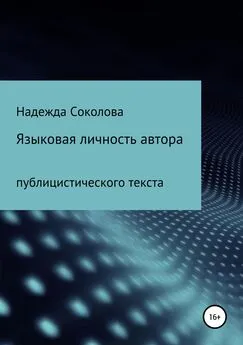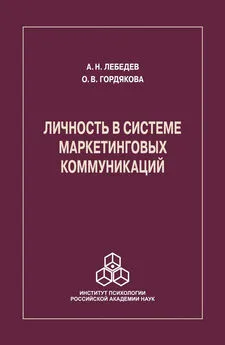Лариса Ухова - Языковая личность в системе массмедиа
- Название:Языковая личность в системе массмедиа
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4460-9839-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лариса Ухова - Языковая личность в системе массмедиа краткое содержание
Языковая личность в системе массмедиа - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
4) Персональным, единичным, конкретным. Это могут быть знакомые и незнакомые люди, в обстановке официальной и неофициальной, в отношениях теплых, дружеских и холодных, натянутых и т.д. Любой речевой акт ориентирован на адресата [Арутюнова, 1981], на удовлетворение его пресуппозиций и интенциональных ожиданий, на перлокутивный эффект [Остин, Серль, 1986].
В связи с адресованностью речи встает вопрос и о косвенном (или вторичном) адресате. И здесь Н. И. Формановская в первую очередь выделяет такие публичные жанры, как теле- и радиоинтервью, беседа, «круглый стол» и т.п., когда, например, на экране общаются двое или несколько… и диалоги выстраиваются по всем законам этого вида речи, но с учетом многомиллионного косвенного адресата – зрителя- слушателя.
Кроме того, следует отметить, что адресат письменного и устного текста как текстопорождающий фактор инвертируется с адресатом – получателем текста, читателем-слушателем, интерпретатором, т.е. активным субъектом общения. Процесс интерпретации [Долинин, 1985] связан с когнитивными операциями понимания на основе знания.
К факторам, способствующим пониманию, главным образом устного текста, Т. ван Дейк относит следующие.
1. Свойства грамматической структуры высказывания (заданные грамматическими парадигмами).
2. Паралингвистические характеристики: темп речи, ударения, интонация, высота тона, с одной стороны, и жесты, мимика, движение тела – с другой.
3. Наблюдение / восприятие коммуникативной ситуации (присутствие и свойства находящихся в поле зрения объектов, людей и т.д.).
4. Хранящиеся в памяти знания / мнения о говорящем и его свойствах, а также информацию о других особенностях данной коммуникативной ситуации.
5. В частности, знания / мнения относительно характера происходящего взаимодействия и о структуре предшествующих коммуникативных ситуаций.
6. Знания / мнения, полученные из предыдущих речевых актов, то есть из предшествующего дискурса, как на микро- (или локальном), так и на макро- (или глобальном) уровнях.
7. Знания общего характера (прежде всего конвенциональные) о (взаимо)действии, о правилах, главным образом, прагматических.
8. Другие разновидности имеющих общий характер знаний о мире (фреймы) [Дейк ван Т., 1989, с. 15].
Таким образом, адресат как интерпретатор текста должен (в соответствии со своей коммуникативной ролью) а) принять информацию и б) понять ее – применительно к собственному языковому и параязыковому, национально-культурному, интеллектуальному и др. тезаурусу, собственным мнениям, предпочтениям, оценкам, отношениям, исчислить предтекстовые пресуппозиции и затекстовые импликации с опорой на общий фонд знаний, а также в) отреагировать на полученную информацию.
Особенностью публичной речи как разновидности речевого общения является также и то, что это вид прямой коммуникации, контролируемый обоими участниками общения. Это позволяет обеим сторонам корректировать характер взаимодействия, влиять на его результаты [Шмелева, 1985], что обусловливает такую специфическую черту публичной речи, как спонтанность, которая, однако, носит ограниченный характер и прежде всего потому, что текст публичного выступления, имея устную форму презентации, как правило, готовится заранее и чаще фиксируется в письменном виде.
Диалог, будучи одной из форм существования языка, является едва ли не важнейшей областью проявления языковых закономерностей. Отличие диалога от других сфер функционирования языка заключается прежде всего в сложной картине взаимодействия интенций коммуникантов. Нормальный ход диалога предполагает согласование иллокутивных намерений (коммуникативных целей) участников диалога, которое заключается в удовлетворении их взаимных претензий. Участники диалога вынуждены выполнять разнообразные речевые и неречевые действия, заставляя партнера реагировать на них определенным образом. Каждое такое речевое и неречевое вынуждение получает ответную реакцию со стороны другого участника (ср. у Бахтина представление о смене речевых субъектов и о выполнении взаимных обязательств участников как об основной особенности диалога в сравнении с монологом [Бахтин, 1979, с. 251, 255]).
Говоря о взаимодействии участников общения в рамках диалога, А. Н. Баранов, Г. Е. Крейдлин вводят понятие иллокутивного вынуждения как «одного из проявлений законов сцепления, действующих на пространстве диалога» [Баранов, Крейдлин, 1992, № 2]. Речевые акты, связанные в речевом контексте отношением иллокутивного вынуждения, авторы предлагают называть соответственно иллокутивно независимым и иллокутивно зависимым. Иллокутивно независимый речевой акт они определяют как речевой акт, иллокутивное назначение которого на данном шаге определяется интенциями самого говорящего, а иллокутивно зависимый речевой акт как речевой акт, иллокутивное назначение которого всецело определяется иллокутивным назначением какой-либо предшествующей реплики (из данного речевого отрезка), соответственно распределяя иллокутивно независимые и иллокутивно зависимые реплики. Структура диалога, по мнению авторов, опирается на отношение иллокутивного вынуждения, подобно тому как структура предложения формируется на основе синтаксических связей. «Между тем иллокутивное вынуждение не тождественно синтаксической связи. Если такая связь, как синтаксическая зависимость, основывается исключительно на категориальных свойствах языковых единиц, то вынуждение, действуя на пространстве речевых актов, формируется не только под влиянием иллокутивной функции речевых высказываний, но и находится под воздействием общих законов функционирования диалога» [Баранов, Крейдлин, 1992, С. 88]. (К последним, в частности, принадлежат социально обусловленные законы-максимы Грайса и принцип вежливости Линча.)
Исследование закономерностей речевого взаимодействия, выявление путей оптимизации такого взаимодействия – задачи, которые на сегодняшний день лежат в области интересов различных направлений антрополингвистики [Седов, 2000], и в частности, – лингвистической конфликтологии. О природе конфликтов много и достаточно интересно писали психологи [Берн, 1997, 2000; Шейнов, 1999]. В работах зарубежных и отечественных исследователей показаны причины конфликтов, даны рекомендации по их предотвращению и выходу из конфликтной ситуации. Языковеды делают лишь первые шаги в освоении этого объекта изучения [Горелов, Седов, 1998; Енина, 1999; Жельвис, 1997; Седов, 1996; Стернин, 1995; Ширяев, 2000].
Определение механизмов диалогического взаимодействия – задача далеко не решенная в современном языкознании, хотя область эта интенсивно изучается. О. С. Иссерс отмечает [Иссерс, 1999], что некоторые объяснения этих процессов могут быть получены через описание стратегических направлений и тактических приемов, реализуемых по ходу диалога.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: