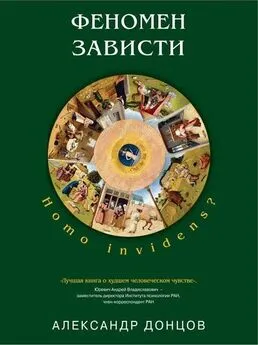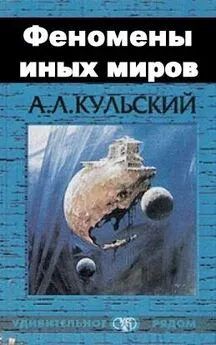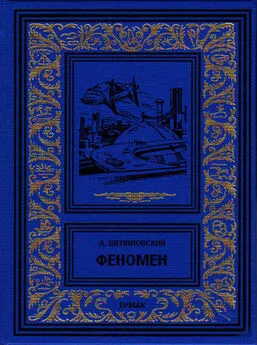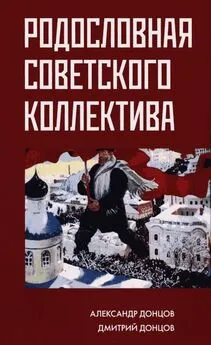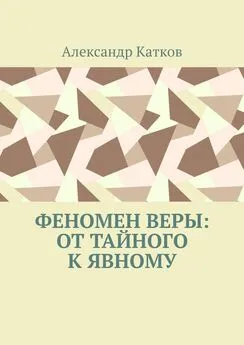Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens?
- Название:Феномен зависти. Homo invidens?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Эксмо»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-74716-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Донцов - Феномен зависти. Homo invidens? краткое содержание
Феномен зависти. Homo invidens? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проанализировав лексическую эволюцию слова «зависть» во французских литературных текстах XIII–XV вв., лингвист Мирей Венсен-Касси обнаружила ряд интересных тенденций [31] Vincent-Cassy M. L’envie au Moyen Âge // Annales. Economies. Sociétés. Civilisations. 35 année. № 2. 1980.
. В течение этих трех столетий, во-первых, неуклонно росло количество упоминаний l’envie в сопоставимых по жанру и объему произведениях. Согласно конкретным свидетельствам, приведенным автором, до середины XIV в. частота использования слова весьма незначительна, после событий 1380 г. она «взорвалась». Напомню, 16 сентября 1380 г. умер французский король Карл V из династии Валуа. Ему наследовал малолетний сын Карл VI (1368–1422). Регентами стали враждовавшие из-за власти дяди короля Карла VI по отцу герцоги анжуйский, беррийский и бургундский и дядя по матери герцог бурбонский. Ставший общеизвестным накал их противостояния был назван современниками «битвой Каинов», причина которой – лютая зависть принцев друг к другу. Во-вторых, в этот период утвердился двузначный – социальный и психологический – объяснительный потенциал l’envie. В светской литературе слово обозначало истоки неприязни как социальных групп (слоев, корпораций, сословий и даже стран), вызванные видимым превосходством одной из них, так и их представителей. Захватнические планы чужеземцев, бунты крестьян, недовольство ремесленников, споры городов и деревень, возмущение роскошью дворян и богатством церкви – за этими и им подобными катаклизмами средневековые французские писатели усматривали зависть социальных групп, считающих себя незаслуженно обездоленными, униженными и стремящихся восстановить справедливость.
Использование слова «зависть» для именования причины массовых волнений вполне уживалось с возможностью его употребить для указания на индивидуальное возмущение чужим успехом, благополучием, признанием. Примеры соответствующих высказываний свидетельствуют: наибольшее раздражение вызывали внешние признаки благоденствия – одежда, еда, экипажи, балы, дома и т. п., постепенно осознанные как следствие обладания деньгами. Именно деньги в конечном счете стали главным объектом зависти, и адресовалась она прежде всего тем, кто ими обладал: знати, буржуа, адвокатам, ростовщикам, монахам. Особенное негодование вызывали стремящиеся богато выглядеть без должных оснований. Их самих обвиняли в зависти. По словам автора, на фресках XV в. в деревенских церквах этот грех персонифицировали в основном мужские фигуры в городском платье, чуждом крестьянскому быту. Надежда показаться более благополучным и состоятельным как показатель зависти? Увы, лексическая связь l’envie с тщеславием в статье не прослежена, но гипотеза о том, что публичная демонстрация своих действительных и мнимых достоинств – не только причина, но и следствие зависти, уверен, заслуживает внимания. В том, что хвастовство подспудно мотивировано желанием вызвать зависть окружающих, убеждался не раз, но что оно порождено завистью – не задумывался. Видимо, зря. Может, и вправду, страдая от чьей-то зависти, клеймя ее, мы и сами не прочь ее спровоцировать? Отомстить за испытанное унижение?
Неизменной характеристикой зависти во французских текстах XIII–XV вв. называлась скрытность, но ключевые синонимы варьировали. В XIII в. до или после l’envie чаще всего упоминалось злословие (medisance), в XIV в. – вожделение, страстное стремление (convoitise), в XV в. – ненависть, злоба (haine). В этом, по мнению М. Венсен-Касси, отразилось различие в восприятии эффектов зависти, к XV в. приобретшей массовый и остервенелый норов. В зависти видели корень всех и всяких противостояний и распрей, даже эпидемию коклюша 1414 г. называли «болезнью завистников». Коль скоро речь зашла об эмоциях, приведу любопытные наблюдения о судьбе этого слова во французском языке профессора Лувенского университета (Бельгия), экс-президента Международного общества исследования эмоций (International Society for Research of Emotion) Бернара Римэ, которыми он поделился в относительно недавно опубликованной книге [32] Rimé B. Le partage social des émotions. Paris, 2005. С. 43–45.
. Указав на широчайшую представленность термина «эмоция» (emotion) в современном французском, профессор с удивлением констатирует, еще в XVI в. это слово вообще отсутствовало в языке [33] Huguet E. Dictionnaire de la langue française du XVI siécle. Paris, 1946.
. В то время бытовал близкий по звучанию термин esmouvoir, означавший «приводить в движение», а также существительное esmay – «сожаление, скука, волнение» и глагол esmayer – «нарушать спокойствие, волновать, удивлять, ужасать». Лишь во французской лексике XVII в. впервые появляется слово «эмоция» [34] Coyrou G. Le française classique. Lexique de la langue française du XVII siècle. Paris, 1924.
. Однако значение этого слова в то время было весьма далеко от нынешнего: оно указывало прежде всего на «народные волнения, тревоги, возмущения, бунт, мятеж», т. е. на те «движения масс», которые мы сегодня именуем «общественными настроениями». И даже в XIX в., судя по лексическим словарям [35] Littré E. Dictionnaire de la langue française. Paris, 1883; Larousse P. Dictionnaire universel du XIX siècle. Paris, 1870.
, первым и главным значением слова emotion было «волнение населения» и «возбуждение народных масс». Только к середине XVII в. относится первая попытка употребить «эмоцию» для указания на индивидуальные аффективные переживания. Она была сделана, по данным «Исторического словаря французского языка» [36] Dictionnaire historique de la langue française. Paris, 1992.
, великим мыслителем Р. Декартом в рассуждениях о страстях души.
Эволюция значения слова «эмоция» в английском языке, куда оно проникло из французского, – аналогична. Оксфордский словарь датирует его письменную инаугурацию 1579 г. в значении «политические и социальные волнения», 1603 г. – «миграция, перемещение с одного места на другое», 1660 г. – «возмущения и пертурбации разума (духа)» и т. п. Русский язык слово «эмоция» также заимствовал из французского, но известность оно приобрело здесь значительно позже, в конце XIX в., но уже в современном смысле – «душевное переживание, чувство человека». Причины, по которым слово «эмоция» так поздно стало обобщающим термином для обозначения человеческих волнений и страстей, субъектом и носителем которых является отдельный индивид, а не людская масса, заслуживают специального обсуждения, которое нынче выходит за пределы наших с вами, читатель, интересов. Но в наших интересах задуматься: а до того, как осовременилось слово «эмоция», люди разве не испытывали страстей и аффектов? Не радовались, не грустили, не гневались, не боялись, не любили? Именно эти чувства назвали представители 11 национальностей Европы, Канады, Индонезии, Японии, Турции, которых исследователи попросили в течение 5 минут перечислить все пришедшие на ум эмоции [37] Frijda N. H., Markam S., Sato K., Wiers R. Emotion and emotion word // Everyday conceptions of emotions. An introduction to the psychology, anthropology and linguistics of emotions. Dordrecht. The Netherlands: Kluwer. 1995.
. Зависть не вошла в список лидирующих в сознании наших современников эмоций. Но означает ли это, что они ее никогда не испытывали? Слово «зависть» появилось в древнерусском и французском языках в XII в., стало быть, до этой поры русичи и французы были начисто лишены этого едкого чувства? Идиллическая картина непрестанной радости чужому успеху и искреннего смирения перед более удачливым соперником плохо вяжется с теми суровыми временами. Разве знаменитая десятая заповедь «не возжелай дома ближнего твоего, ни жены его, ни раба его, ни вола его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17), озвученная Моисеем более чем за тысячу лет до нашей эры, адресована только детям Израилевым? Но как же тогда прикоснуться к этой безъязыкой зависти доисторических времен? Задача не из простых, но, надеюсь, мы с ней справимся, читатель. Пока же предлагаю вновь вернуться к семантике зависти – envie во французском языке: остались еще две любопытные детали, которые не хочется упустить.
Интервал:
Закладка: