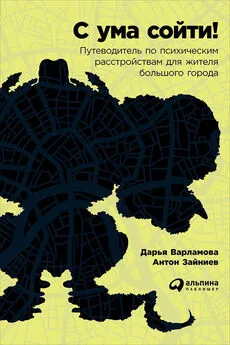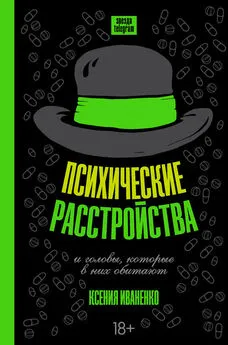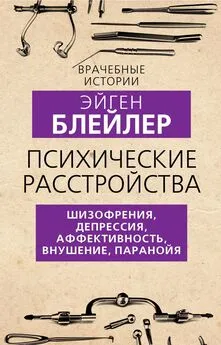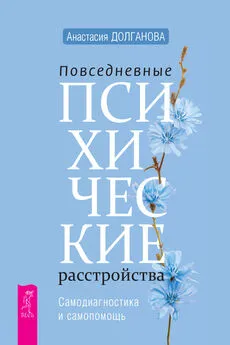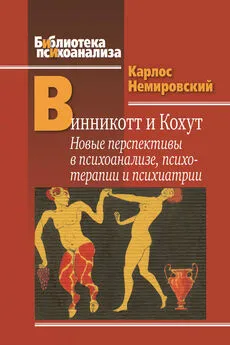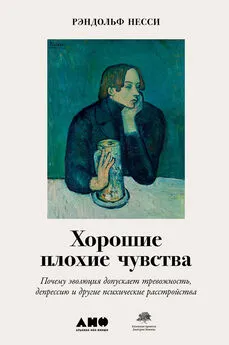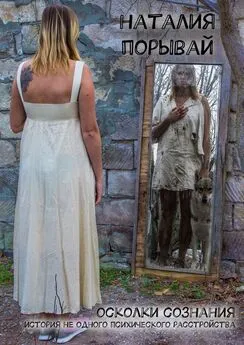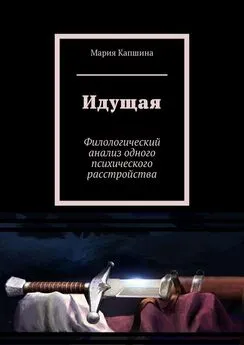Борис Казаковцев - Психические расстройства при эпилепсии
- Название:Психические расстройства при эпилепсии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Прометей»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9906134-7-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Казаковцев - Психические расстройства при эпилепсии краткое содержание
2-е издание, переработанное и дополненное
Психические расстройства при эпилепсии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если зарубежные авторы традиционно «по отдельности» и стандартно описывали особенности эпилептических психозов, изменений характера и деменции, то многие отечественные психиатры призывали отказаться от искусственного разделения всей совокупности проявлений болезни на процессуальные и дефектные симптомы. О целесообразности установления типов корреляций преходящих эпилептических психозов со стойким статусом больных говорил, в частности, О. В. Кербиков (1940).
В противоположность сообщениям в зарубежных публикациях о клинических вариантах эпилептических психозов со стереотипным их описанием у госпитализированных больных, Г. Е. Сухарева (1945) в целях изучения различных форм эпилептической болезни не только прослеживала неоднородность клинической картины заболевания у больных разного возраста, но и анализировала индивидуальное развитие симптоматики у больных в течение многих лет. М. Я. Серейский (1945) и П. Ф. Малкин (1945) указывали на необходимость катамнестического изучения психических расстройств при эпилепсии и особенно – типов и структуры терапевтических и спонтанных ремиссий.
Большинство отечественных психиатров в военные и послевоенные годы для дифференцированного рассмотрения клинического материала использовали критерий интенсивности и темпа течения процесса, а при изучении структуры дефекта учитывали тип изменений личности и мышления больного.
Развитие психоза в виде приступов связывалось в эти годы с более прогредиентным течением болезни (Р. С. Повицкая, 1945). Аналогичным образом расценивались случаи длительного расстройства сознания по типу оглушенности (М. С. Певзнер, 1945) и наличия резидуального бреда (К. А. Новлянская, 1945). Для непрерывных психозов обязательной предпосылкой считались «эпилептический психопатический склад», начало динамики психопатологических расстройств от сверхценных образований или застывание парадоксальных мыслей и ложных идей (Д. А. Аменицкий, 1942).
Существовали и общие с некоторыми зарубежными психиатрами точки зрения, которые проявлялись в этот период в объяснении вариантов паранойяльного развития при эпилепсии патологической реактивностью, обусловленной органической неполноценностью центральной нервной системы (С. Г. Жислин, 1945).
Пятидесятые и шестидесятые годы – этап активного поиска необходимых для суждения о прогнозе связей между изменениями биоэлектрической активности мозга и психопатологическими проявлениями эпилептической болезни.
Однако противоречивость соответствующих данных была обусловлена значительной утратой клинического подхода к анализу психопатологических расстройств. Как никогда прежде понятие эпилепсии было низведено до ранга пароксизмального синдрома или реакции, а понятие эпилептического психоза до уровня отдельных симптомов или форм поведения больных, т. е. не клинических, а скорее психологических и поведенческих явлений, как бы случайно сочетающихся с эпилепсией-припадком.
Возможно именно вследствие этого электрофизиологические находки данного периода так и не нашли своей законченной трактовки на «психоморфологической» основе подобно тому, что было сделано в отношении пароксизмальных состояний.
Малопродуктивными оказались и попытки использовать понятие реакции для объяснения факта существования психической эпилепсии (М. Lennox, J. Mohr, 1950; W. Brautigam, 1951; W. G. Lennox, 1954; S. M. Ferguson и соавт., 1965; H. D. Pache, 1965, и мн. др.).
W. G. Lennox (1954), в частности, считал препятствием для лечения эпилепсии факторы скрытности, стыда и страха, переживаемых больным и его семьей, а также неправильные представления о болезни и остракизм со стороны общественности. S. M. Ferguson и соавт. (1965) и Н. D. Pache (1965) во избежание «непосильной конкуренции» рекомендовали уход больных из семьи и приобщение к «аналогичной среде».
Позиция, сравнительно более умеренная и приближающаяся к современной, выражалась в рассмотрении психопатоподобных и психотических состояний при эпилепсии в качестве признаков отклонений в поведении, обусловленных «не исключительно органическими факторами, но также всегда одновременно психореактивными и средовыми» (Н. Hoff, 1953; D. A. Pond, 1955; Е. A. Weinstein, 1959, и др.).
В противоположность односторонним поискам электрофизиологических и социальных коррелятов психических расстройств при эпилепсии, в эти же годы наметился определенный возврат к изучению характеристик эпилептического психоза. В защиту концепции эпилепсии как полиэтиологического заболевания с единым патогенезом приводились данные о клиническом сходстве височных форм эпилепсии (W. Scholz, 1951), о существовании интеллектуального и эмоционального склада больного эпилепсией (Е. Т. Zimmermann и соавт., 1951), о возможности трактовки эпилепсии как «третьего психоза» (К. Schneider, 1959), о наличии психосиндромов, соответствующих эпилепсии сна и бодрствования (D. Janz, 1955), о зависимости резидуального бреда от учащения эпизодических психотических состояний (Л. Э. Музычук, 1964) и др.
Из зарубежных авторов К. Simma(1953), FA. Gibbs (1954), HG. Perustich (1957) впервые за много лет высказали сомнения в возможности исключительного объяснения психогенией изменений личности при эпилепсии. Большое значение в происхождении этих расстройств G. Goellnitz (1954), например, придавал повреждениям головного мозга в раннем детстве, В. Harvard (1954) и R. de Smedt (1963) – наследственности.
Отводя ведущую роль клинической диагностике, Т. Ott и соавт. (1962) подчеркивали, что данные электроэнцефалографии не автоматизируют методы диагностики и не являются основой терапевтических рекомендаций. Признавалась необходимость изучения «продольного разреза» заболевания для диагностики и лечения (Н. Doose, 1967). Из отечественных психиатров на преждевременность физиологического толкования симптомов у пациента указывали Н. А. Попов (1954), Г. Е. Сухарева (1955), Е. Н. Каменева (1956, 1959).
С применением указанных методологических подходов программа исследования прогноза при «психической эпилепсии» приобретала необхо-димую целенаправленность. Устанавливались связи между интенсивностью эпилептического процесса и остротой и полиморфизмом сумеречных состояний (Р. Г. Гисматулина, 1959), темпом восстановления после припадка нервно-психической деятельности (С. С. Мнухин, 1958), преобладанием острых психозов или деменции (Я. П. Фрумкин и Н. Я. Завилянский, 1959).
Разнообразие психических нарушений при эпилепсии связывали со стадийностью течения заболевания (М. Ф. Тальце, 1951) и глубиной нарушения деятельности мозга (А. Б. Смулевич, 1965). Подчеркивалось, что эпилептический припадок является лишь элементом эпилептического процесса, а не источником образования всех других симптомов эпилепсии (С. Ф. Семенов, 1967, и др.).
Было установлено, что в большинстве случаев развитие психоза начинается спустя несколько лет после появления первых признаков эпилептической болезни (D. A. Pond, 1957; Т. Negishi, 1965; S. Ohuchida, 1966, и др.). Приводились цифры: 3–15 лет (A. Beard и соавт., 1962; Б. М. Куценок, 1967, и др.), 18 лет (W. Mayer-Gross и соавт., 1960; Р. Г. Гисматулина, 1968), 10–20 лет (Л. Э. Музычук, 1964), 6 лет – 32 года (Н. М. Бергельсон, 1964), 11–40 лет (В. Н. Фаворина, 1968).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: