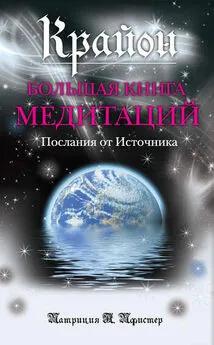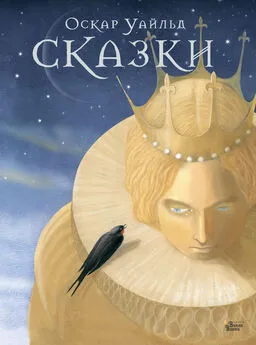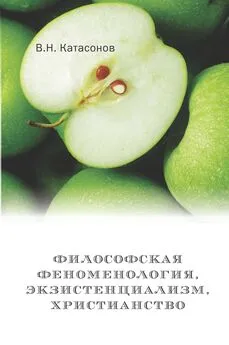Оскар Пфистер - Христианство и страх
- Название:Христианство и страх
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-095202-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оскар Пфистер - Христианство и страх краткое содержание
Христианство и страх - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В современной науке формируется консенсус относительно того, что раннее христианство было одной (точнее, даже и не одной) из форм иудаизма эпохи Второго Храма. В нем не было ни богословских, ни ритуальных особенностей, которых бы не разделяли те или иные нехристианские направления иудаизма. Уникально было только признание Иисуса Мессией (Христом). Но, как где-то заметил выдающийся современный ученый Дэниел Боярин, тут ситуация напоминала нынешнее отношение в иудаизме к движению Хабад Любавич: остальные иудеи не верят в то, что скончавшийся в 1994 году любавичевский ребе Шнеерсон был Мессией, но на этом основании никому не приходит в голову не считать «хабадников» иудеями [16] Из современной литературы о соотношении раннего христианства и иудаизма можно особо рекомендовать: J. D. G. Dunn, The Partings of the Ways between Christianity and Judaism and their Significance for the Character of Christianity , London, 1991; 2 nd ed. 2006; The Ways that Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages , ed. A. H. Becker, A. Yoshiko Reed (Texte und Studien zum antiken Judentum, 95), Tübingen, 2003; D. Boyarin, Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity . (Divinations: Rereading Late Ancient Religion). Philadelphia, 2004; в связи с затронутыми Пфистером темами (в частности компульсиями) представляет особенный интерес: I. W. Oliver, Torah Praxis after 70 CE. Reading Matthew and Luke-Acts as Jewish Texts. (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, II/355). Tübingen, 2013 [ср. мою рец.: Scrinium 12 (2016), 391–394].
.
Современный научный Христос, вероятно, мог бы немного разочаровать Пфистера – как своим недопониманием гуманистических идей (это уж неизбежно, если принять буквально все евангельские слова в духе одобрения Ветхого Завета, особенно Мф. 5:17–18, где говорится о том, что Новый Завет не подразумевает отмены Ветхого, но подразумевает его исполнение), так и своей приверженностью к слишком несовершенным, с точки зрения Пфистера, формам благочестия: например «магическим» жертвоприношениям и безбрачному аскетизму. Для Пфистера, как обычно для протестантов, христианская Евхаристия – что-то вроде поминок, где сходство с жертвоприношением только самое отдаленное; особой роли в христианской жизни, как ее видит Пфистер, она играть не должна. Для исторического Христа и вообще кого-либо из его еврейских современников это вряд ли могло быть так. Для них жертвоприношение оставалось полностью актуальной религиозной практикой, даже если уже начинала практиковаться замена помазания кровью животных вкушением вина [17] Относительно отраженных в евангелиях ритуалов эпохи Второго Храма см., в частности, A. Jaubert, La date de la Cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne. (Études bibliques). Paris, 1957 (англ. пер.: The Date of the Last Supper , Staten Island, NY, 1965), а также, с учетом новейших данных, É. Nodet, “On Jesus’ Last Supper,” Biblica 91 (2010), 348–369.
. Что касается брака, то Пфистер не одобряет позиции Павла, которая и стала общехристианской, но зато горячо одобряет Христа, забывая при этом истолковать его слова в Мф. 19:27, где за оставление жены (и прочих родственников) обещается в Царствии Небесном в сто раз больше оставленного. Буквально тут сказано о том, что вместо одной оставленной на земле жены будет сто. Вряд ли это стоило бы толковать слишком буквально, то есть в смысле обетования гурий. Но тогда получается, что либо эти (и не только эти) слова Христа «неаутентичны» в смысле радикального противоречия его учению, либо все-таки и Христос недалеко ушел от Павла. Новый Завет подразумевал Новый Исход, так как только во время Исхода возможен новый Синай (которым стал Сион) с его откровением Завета. Но Исход – это священная война и сопутствующие ей аскетические ограничения. Жизнь раннехристианских общин вполне следовала предписаниям Ветхого Завета, но в той их части, которая относилась только ко временам войны. Главным оружием в этой войне становилось мученичество, богословская теория которого была сформулирована еще в дохристианских 2 и 4 книгах Маккавеев. Таким христианство явилось в мир уже в общине самого Иисуса [18] См. подробнее в: В. М. Лурье, Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. СПб., 2000.
. Фундаментальное для христианства значение мученичества Пфистер упускает из виду, а потому не может увидеть и надобность в его органичном продолжении – монашеской аскетике.
Тем не менее даже за исторически ошибочными представлениями у Пфистера стоит нечто важное. Пусть его образ христианства исторически не соответствует не только реальному историческому христианству – это и сам Пфистер охотно признаёт, – но даже и сколько-нибудь историческому Иисусу, оно, однако, соответствует определенному идеалу «христианства на службе человечеству» – такому христианству, которое делает лучше жизнь людей на земле. Пфистер не соглашается с аскетическими предложениями просто отказаться от жизни мирскими радостями и найти при помощи религии что-то более нужное, а напротив, заходит настолько далеко, что пытается сделать христианство полезным даже для тех, кто в него не верует; его личные отношения с Фрейдом тут были всего лишь частным случаем. Он верил, что, с одной стороны, человечество, а с другой стороны, христианство на самом деле устроены так, что христианство может и должно осчастливить человечество. Понимая, что в истории почти никто из христиан так не думал [19] Тут русский читатель должен возразить, вспомнив хотя бы Достоевского. В отличие от Фрейда, Пфистер почему-то Достоевским не увлекался. Возможно, повлияло отношение к Достоевскому Фрейда, сформулированное публично лишь в его предисловии к немецкому изданию «Братьев Карамазовых» (статья «Достоевский и отцеубийство», 1928), но более-менее известное в ближнем кругу Фрейда не позднее 1920 г. Если статью Фрейда одобрили прежде публикации Джонс и Ференци, то с ней мог согласиться и Пфистер. Фрейд видел в Достоевском человека, страдающего тяжелыми неврозами и перверсиями. Из множества публикаций, посвященных теме «Достоевский и Фрейд», наиболее интересны исследования психоаналитиков: F. Schmidl, “Freud and Dostoevsky,” Journal of the American Psychoanalytic Association 13 (1965), 518–532 (изложение наиболее важных данных); J.-P. C. J. Selten, “Freud and Dostoevsky,” The Psychoanalytic Review 80 (1993), 441–455 (попытка анализа патологических мотивов самого Фрейда, приведших к ошибкам в диагностировании Достоевского).
, он проецировал подобное мировоззрение на Иисуса, и ему этого хватало.
Сказав немного о христианстве, мы должны сказать и о психоанализе – насколько он подходил для проекта Пфистера?
В настоящей книге Пфистер старательно избегает технической терминологии и, тем паче, изложения сложных теорий. Он хочет сделать ее понятной для тех, кто ничего не знает о психоанализе, да и не собирается узнавать. На практике это все равно приводит к тому, что специальная терминология нет-нет, да и прорывается. Но главное, что конкретные теории психоанализа все равно остаются полностью узнаваемыми. Это прежде всего представление Фрейда о трехчастной структуре ( Id, Ego, Super-Ego – «Оно», «Я» и «Сверх-Я»), как оно сложилось к 1920-м годам, а также сформировавшаяся в те же годы фрейдовская рецепция представлений Лебона о психологии толпы (Пфистер ссылается на Лебона, но стремится минимизировать ссылки на Фрейда – вероятно, чтобы не распугать консервативную часть аудитории).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
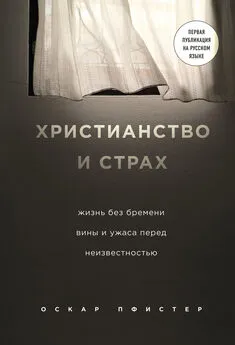

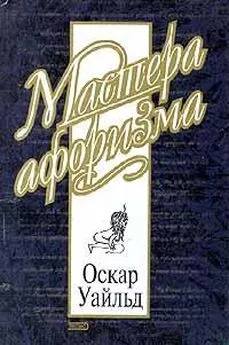
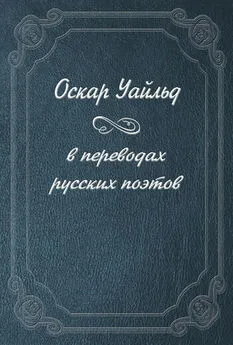
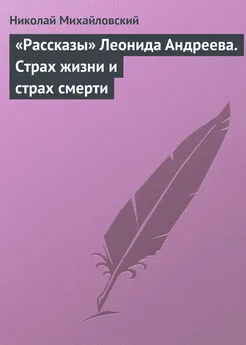
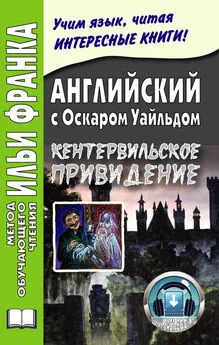
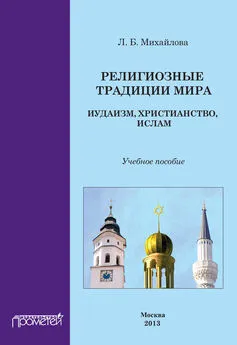
![Оскар Пфистер - Христианство и страх [litres]](/books/1078930/oskar-pfister-hristianstvo-i-strah-litres.webp)