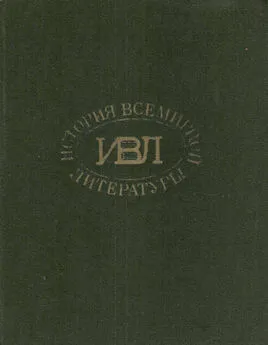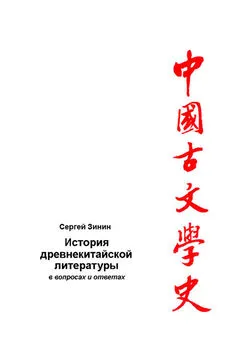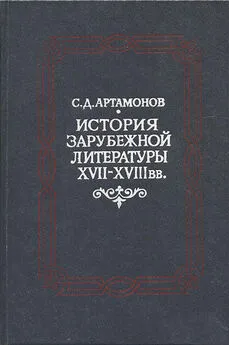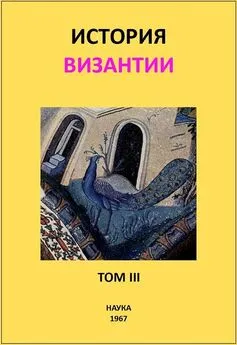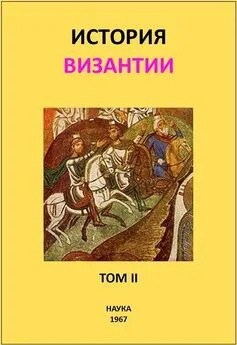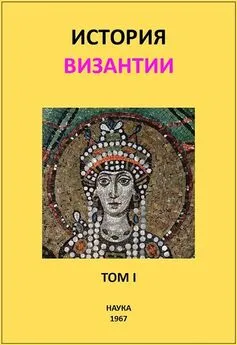Сергей Аверинцев - История всемирной литературы: В 8 томах статьи
- Название:История всемирной литературы: В 8 томах статьи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:М.: Наука
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - История всемирной литературы: В 8 томах статьи краткое содержание
Статьи Аверинцева С.С. из энциклопедии "История всемирной литературы" В 8 томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1983—1994.
История всемирной литературы: В 8 томах статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По своему словесному облику «Книга Иова» так же необычна, неожиданна и парадоксальна, как и по содержанию. Она изобилует смелыми метафорами, нередко взятыми из забытых глубин архаического мифа (рефаимы и Аваддон, духи водных глубин и бездн преисподней, трепещущие перед мощью Шаддая, гл. 26). В ней много слов, не встречающихся больше во всех дошедших текстах древнееврейской литературы (т. н. hapax legomena). Ее лингвистическая природа содержит в себе немало загадок, по сей день не разгаданных до конца.
Всемирно-историческое значение «Книги Иова» определяется тем, что она подытожила центральную для Древнего Ближнего Востока проблематику смысла жизни перед лицом страданий невинных (в египетской литературе — «Беседа разочарованного со своей душой», «Песнь арфиста», в вавилонской — поэма «Повесть о невинном страдальце» и «Разговор господина и раба») и в этом обобщенном, суммирующем выражении передала европейской культуре. Интересно, что с течением времени ее значение повышалось. Для средневекового сознания она была слишком дерзновенной и загадочной; ее благочестивые толкователи тяготели к тому, чтобы сводить ее смысловое богатство к содержанию двух первых глав, так, как если бы смиренные афоризмы: «Яхве дал, Яхве и взял — благословенно имя Яхве!» (1, 21), «Приемлем мы от Бога добро — ужели не примем от Него зло?» (2, 10) — принадлежали не зачину книги, а резюмирующему концу. Целые поколения евреев, читавших саму «Книгу Иова», христиан, также читавших ее, но чаще знакомых с парафразами начальных глав в гомилетической (проповеднической) литературе, и мусульман, знакомых с Иовом (Айюбом) по упоминаниям в Коране (суры XXI и XXXVIII) и многочисленным легендам, вычитывали не больше, чем нехитрый вывод о пользе безграничного терпения, так что образ Иова воспринимался как святой и назидательный, но сравнительно редко занимал центральное место в духовном мире и воображении вдумчивых людей. Однолинейная моралистическая интерпретация, предложенная на рубеже V и VI вв. Григорием Великим, долго оставалась нормой. Лишь кризисы, ознаменовавшие начало и дальнейшее движение Нового времени, раскрыли глаза на глубины, которые таятся в «Книге Иова». Ее стихотворное переложение создал в эпоху испанского Ренессанса Луис де Леон; отголоски ее интонаций наполняют трагедии Шекспира; ее экспозиция — образец для «Пролога на небесах» в гетевском «Фаусте». Но ключевое значение символика «Книги Иова» имеет для итогового произведения Ф. М. Достоевского — для «Братьев Карамазовых». С ней недаром связано детское переживание старца Зосимы, вспоминающего: «и верблюды-то так мое воображение заняли, и сатана, который так с богом говорит, и бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его восклицающий: „Буди имя твое благословенно, несмотря на то, что казнишь меня“». Протест Иова оживает в богоборческих словах Ивана Карамазова: «Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять... Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и неправ». И само приятие мира у Алеши мыслится как приятие по ту сторону неприятия, т. е. как аналог финала «Книги Иова».
Другой замечательный памятник протеста против ортодоксальной «премудрости» — книга, известная европейскому и русскому читателю под греческим заглавием « Екклезиаст » (это
- 296 -
слово было применено александрийскими переводчиками Библии для передачи заглавия «Кохэлэт» — «Проповедующий в собрании»). Так мог бы не без основания назвать себя неведомый книжник, живший в Иерусалиме, скорее всего, в IV в. до н. э. Образ профессионального мудреца дает и позднейшая приписка к книге: «Кроме того, что Кохэлэт был мудр, он еще и учил народ знанию; он взвешивал, испытывал и сложил множество речений (машалов). Старался Кохэлэт приискивать слова приятные, и слова истины написаны им верно» (Еккл., 12, 9—10). Однако зачин книги называет автора так — «сын Давидов, царь в Иерусалиме». Для читателя это могло значить одно — царь Соломон. Обычай приписывать сборники сентенций мудрым царям былых времен искони существовал в древнеегипетской литературе и оттуда перешел в древнееврейскую (о значении имени Соломона как собирательного псевдонима для всего сословия хахамов сказано выше, в связи с «Книгой притчей Соломоновых»). Но здесь перед нами совсем не то, что в «Книге притчей Соломоновых» или в «Песни песней». Автор не просто надписывает над книгой своей имя Соломона, но по-настоящему «входит в образ» великолепнейшего из царей Израиля, вводя неоднозначное сопряжение двух планов: исповедально-личного и легендарно-исторического. Традиционный образ Соломона сознательно взят как обобщающая парадигма для интимного жизненного опыта. Эта сознательность приема есть черта столь же необычная на общем фоне древневосточной литературы, сколь и подходящая к облику скептического мудреца, написавшего в IV или III в. до н. э. «Книгу Проповедующего в собрании».
Для «Кохэлэта» боль и радость — это самое пустое и самое легкое, что только может быть, предел пустоты и легкости; «хавэл», «дуновение» (как мы бы сказали — «фук») — подул, и нет. Метафорически слово «хавэл» можно перевести «тщета» или «суета». Согласно формуле, поставленной в самом начале книги и возвращающейся на правах рефрена не менее двадцати раз, все есть «хавэл», все дуновение и суета. Казалось бы, книга, содержащая такие рассуждения, — инородное тело в составе древнееврейской литературы; можно понять исследователей, которые ищут в «Книге Проповедующего в собрании» феномен эллинистической культуры, кинико-стоическую диатрибу на языке Библии. Но присмотримся к первым строкам книги повнимательнее.
Суета сует, сказал Проповедник,
суета сует и все — суета!
Что пользы человеку от труда его,
которым он трудится под солнцем?
Поколение уходит, поколение приходит,
а земля пребывает вовеки.
Восходит солнце, заходит солнце,
возвращается вспять и вновь восходит.
Идет на юг, обращается на север,
кружит, кружит на пути своем ветер —
и на круги свои возвращается ветер.
Все реки текут в море, но не полнится море;
и от истока реки текут снова...
Что было, то будет,
что вершилось, будет вершиться,
и ничего нет нового под солнцем...
(1, 2—7, 9)
Автор, собственно, жалуется не на что иное, как на ту самую стабильность возвращающегося к себе космоса, которая была для греческих поэтов и греческих философов источником успокоения, утешения, подчас даже восторга и экстаза. Природные циклы не радуют «Кохэлэта» своей регулярностью, но утомляют своей косностью. «Вечное возвращение», которое казалось Пифагору возвышенной тайной бытия, здесь оценено как пустая бессмыслица. Поэтому скепсис «Книги Проповедующего в собрании» есть именно иудейский, а отнюдь не эллинский скепсис; автор книги мучительно сомневается, а значит, остро нуждается не в мировой гармонии, но в мировом смысле. Его тоска — как бы подтверждение от противного той идеи поступательного целесообразного движения, которая так важна и характерна для древнееврейской литературы в целом. Постольку он остается верным ее духу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: