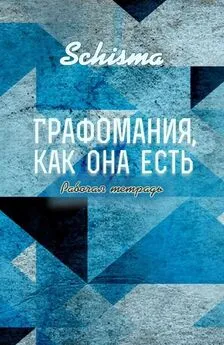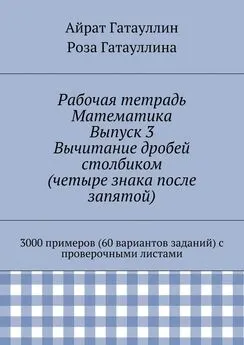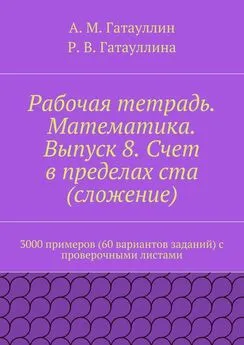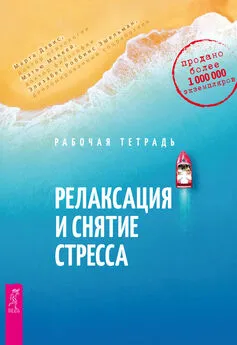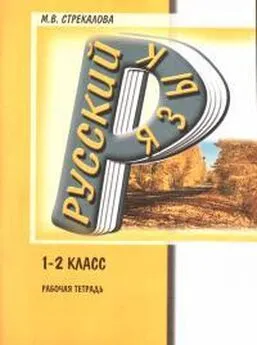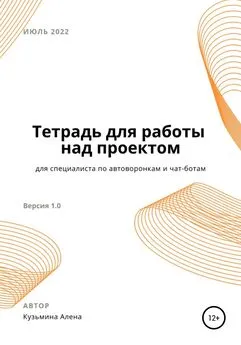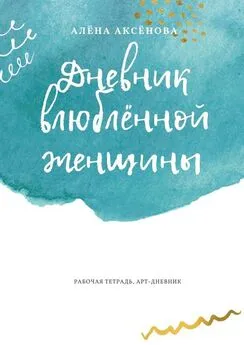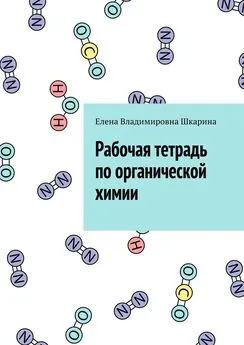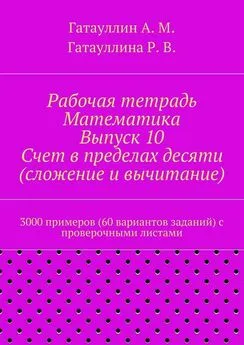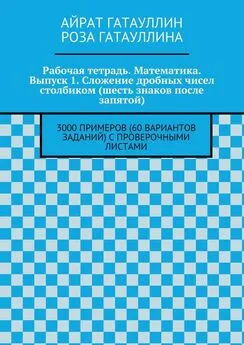Schisma - Графомания, как она есть. Рабочая тетрадь
- Название:Графомания, как она есть. Рабочая тетрадь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Schisma - Графомания, как она есть. Рабочая тетрадь краткое содержание
Мне казалось, что косвенным образом я уже неоднократно ответила на этот вопрос, но теперь отвечу на него прямо, поскольку этого требует контекст: я надеялась, что этих людей интересует (или как минимум должен заинтересовать) собственно литературный процесс и что с ними можно будет пообщаться на темы, которые интересны мне самой. Меня не смущал низкий образовательный и даже общекультурный уровень пишущей молодёжи, потому что эти пробелы при желании и планомерной работе вполне восполнимы. И мне казалось, что чем активней я буду способствовать развитию «молодых талантливых авторов», тем быстрей мы заговорим на одном языке, тем лучше поймём друг друга и тем интересней и плодотворней окажется наше общение в будущем».
Графомания, как она есть. Рабочая тетрадь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«То же» — местоимение. И формально оно употреблено в полном соответствии с правилом номер один употребления местоимений: вначале сущность вроде как поименована, а затем имя заменено местоимением.
Теперь на наглядном примере я объясню, чем моё определение местоимений выгодно отличается от общепринятого. На самом деле в приведённом фрагменте ничего не поименовано. Поименованы скачки обыкновенные. А супер… нет, архискачки, которые заставляли героя забывать обо всём на свете, — не названы. И первое местоимение («что-нибудь этакое») употреблено неправомерно. Однако если бы автор вместо «что-нибудь этакое» написал «что-нибудь особенное» или «что-нибудь выдающееся», ничего бы не изменилось. Сущность так и осталась бы непоименованной. Разбираем структуру блока. «Что-нибудь этакое» — это те самые архискачки, которые «забыл» назвать автор. «То же» не архискачки, а «ждало». Чувствуете разницу? «Вот и здесь то же» = «Вот и здесь его ждало нечто этакое» или «Вот и здесь его ждало кое-что выдающееся». А что выдающееся (этакое, особенное) ждало героя? А не известно. Как ты «этакое» ни называй, какое местоимение ни подставляй, сущность всё равно останется неназванной.
Кто какой номер вытянет — это серьёзно. Это ж не люди решают, и все в это верят. Если номер «несчастливый» достался, не будет удачи.
Аналогичный случай. Первое и второе местоимения употреблены правомерно. Сущность названа («это» = «кто какой номер вытянет»). А вот третье — нет. Верят-то все не в то, кто какой номер вытянет, а в силу жребия, в «счастливые» и «несчастливые» номера.
Здесь я немного отвлекусь на лирику. Помните раннего Блока? Кто не помнит, брысь отсюда в библиотеку. Помните… Что? Какого ещё, на фиг, Мошкова?! В районную библиотеку, бестолочь! Помните, как Блок писал стихи в двадцать лет? «Метнулось…», «Улетела…», «Донеслась…», «Свистнуло…» и т. п. Что метнулось? Куда улетела? Кто свистел? Ничего не разобрать. Фактически любое стихотворение юного Блока — это развёрнутое глагольное местоимение, иногда возвратное («нечто/некто» или, простите за неологизм, «нечнулось/некнулось»). Такие развёрнутые абстракции-местоимения весьма характерны для многих начинающих писателей, притом не только поэтов, но и прозаиков. Всё туманно, всё неявно, сущности завуалированы.
Почему создаются такие абстракции? Чаще всего потому, что автора переполняет какое-то очень плохо уловимое, смутно очерченное и совсем не поддающееся определению чувство. Бездна состояния . Не важно, какого состояния, важно, что бездна. Более того, если состоянию неожиданно сыщется имя, произведение вместо местоимения, выраженного огромной неизреченной абстракцией, превратится во вполне конкретное имя действия. Кстати сказать, даже ранний Блок писал не одними местоимениями. Было у него и два имени, правда, тоже не вполне конкретных, — «ветер» и «Незнакомка». Сущности, названные так, остались в творчестве поэта до самого конца его пути. В «Двенадцати» Блок наконец-то сумел дать каждой из них наиболее точное имя — «вьюга» и «Катька» [13] Если кому непонятно, как из прекрасной Незнакомки могла вырасти «толстоморденькая» проблядушка, пусть опять же отправляется в районную библиотеку. Творческий путь Блока — интрига очень высокого полёта, она заслуживает изучения.
.
Как известно, «Двенадцать» стало последним законченным произведением Блока [14] Строго говоря, были ещё экспромты в альбомах, пародии и литературные шаржи, но именно после «Двенадцати» Блок сказал, что не слышит мира. Звуки ушли от поэта и вместе с ними ушла его способность петь. Осталась техника создания рифмы, но она не есть поэзия.
. Поэт умер. После «Двенадцати» Блок писал только прозу: статьи, аннотации, рецензии и т. п.
К чему я так длинно рассказываю здесь о поэзии вообще и творчестве Александра Блока в частности?
Дело в том, что писать развёрнутыми местоимениями — норма жизни очень многих поэтов (Блок в этом смысле просто удобный пример). Имя всегда выражает сущность, поэт же описывает не саму сущность, а её состояние. При этом он избегает давать имена состояниям, ибо что есть имя состояния, как не имя новой сущности ? Пример. Состояние сущности — «девочка рассержена». Имя новой сущности — «рассерженная девочка». Разницу видите, нет? В первом случае перед нами некая абстрактная девочка, которой присуще некое состояние. Во втором — нет никакого состояния. Есть конкретная голая сущность.
Так вот, господа графоманы, поэт описывает состояние заданной сущности (при этом сама сущность вообще отходит на второй план), прозаик трансформирует сущность как таковую . Поэт скажет: «Рассердилась: вот так, так, ещё вот этак и под конец во как! Кто? Да не важно, ну, пусть будет девочка, хотя лучше просто «она»… а ещё лучше никак её не называть, потому что на самом деле это не «она», а «оно», но в женском роде». Прозаик возразит: «Девочка была просто девочкой, стала рассерженной девочкой, и сейчас я расскажу, как из одной сущности получилась другая». Блок до конца своих дней так и не смог понять, почему в нём умер поэт. Я, кажется, поняла. [15] Да плевать мне, что скажут на это литературоведы.
Он пришёл от описания состояний к трансформациям сущностей, от местоимений к именам. Шёл, обращаю внимание, к этому всю жизнь и в результате пришёл. Нет никакого абстрактного ветра и никакой абстрактной Незнакомки. Есть конкретная, живая питерская вьюга и есть питерская же реальная Катька, которой суждено умереть под забором. В поэме «Двенадцать» Александр Блок перестал быть поэтом, он начал излагать стихами прозу [16] Это, наверное, самый высокий уровень поэтического творчества, до которого в России смогли дорасти лишь четверо: Пушкин, Лермонтов, Некрасов и Блок.
. Но так как всю жизнь его занимали только три сущности — ветер, Незнакомка и бесприютная мятежность — и все три он прямо и исчерпывающе назвал в одной поэме, то писать ему стало просто не о чем.
Вот теперь я перейду к главному. Прозаик — это писатель, который даёт имена. Поэт предпочитает иметь дело с неизреченным. Поэт описывает состояние, прозаик — называет. Поэт живёт в мире местоимений, прозаик — в мире имён. И если проза в стихах — это вершина поэтического творчества, то стихи в прозе — это моветон и не более. Почему? Потому что всё, о чём может свидетельствовать такой, извините за выражение, стихотворный опыт, называется авторской ленью и нежеланием возиться с ритмической структурой текста [17] Ещё раз напоминаю, что рифмованные строки и стихотворные строки — это несколько разные вещи. Рифма — это техника, стих — это определённый взгляд на мир, выраженный в описании состояния. Кстати, попрошу так же не путать термины «описание» и «исследование».
. И если, ребята, вы пишете прозу, вы должны раз навсегда запретить себе поэтический подход к созданию текста, в том числе и описание состояний. Ваша, как прозаиков, прямая обязанность — называть состояния, исследовать их, ставить над ними эксперименты, словом, делать из состояний сущности, но ни в коем случае не описывать их, потому что (ну-ка, блин, тихо там, на галёрке!) описывать состояния именами у вас всё равно не получится, а подменять имена местоимениями , даже развёрнутыми до пределов целой главы, в прозаических текстах нельзя . Это противу правил грамматики, логики и здравого смысла. Вы хотите, чтобы читатель понял вас? Извольте вначале обозначить сущность по имени. Не знаете, как называется та сущность, о которой вы говорите? Выдумайте адекватное и понятное всем название! Голова на то писателю и дадена, чтобы он ею сочинял . А есть можно и в желудок.
Интервал:
Закладка: