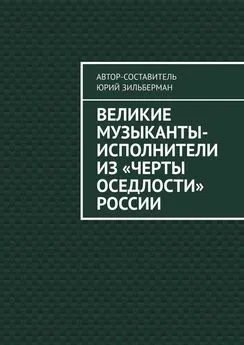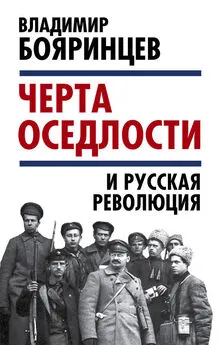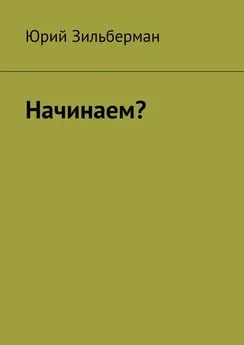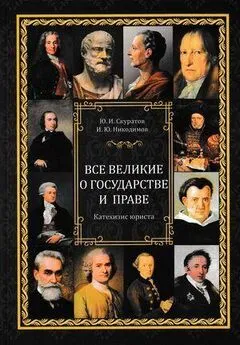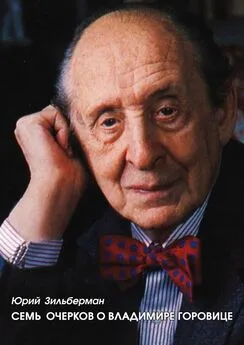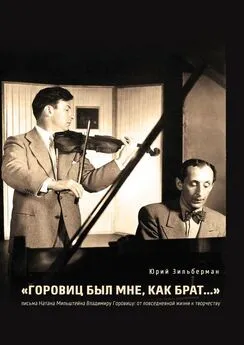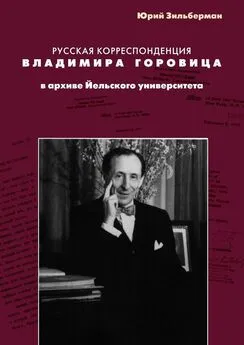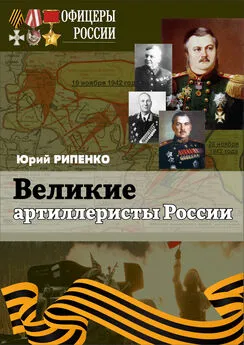Юрий Зильберман - Великие музыканты-исполнители из «черты оседлости» России
- Название:Великие музыканты-исполнители из «черты оседлости» России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005301758
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Зильберман - Великие музыканты-исполнители из «черты оседлости» России краткое содержание
Великие музыканты-исполнители из «черты оседлости» России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Критики говорят – и не без основания – о «привкусе кабаре», о крайностях субъективизма, о вольностях в обращении с авторским текстом, о стилистической неуравновешенности. Но Черкасский и не заботился о чистоте стиля, цельности концепции – он просто играл, играл так, как чувствовал музыку, просто и естественно. Так в чем же тогда привлекательность и увлекательность его игры? Только ли в технической беглости? Нет, конечно, этим сейчас никого не удивишь, да к тому же десятки молодых виртуозов играют и быстрее и громче Черкасского. Сила его, коротко говоря, именно в спонтанности чувства, красоте звука, и еще – в элементе неожиданности, который всегда несет в себе его игра, в способности пианиста «читать между строк». Конечно, в крупных полотнах этого нередко оказывается недостаточно – тут требуются масштабность, философская глубина, чтение и передача авторских мыслей во всей их сложности. Но и здесь у Черкасского иной раз любуешься моментами, полными оригинальности и красоты, яркими находками, особенно в сонатах Гайдна и раннего Моцарта. Ближе к его манере музыка романтиков и современных авторов. Это и полный легкости и поэзии «Карнавал» Шумана, сонаты и фантазии Мендельсона, Шуберта, Шумана, «Исламей» Балакирева, наконец, сонаты Прокофьева и «Петрушка» Стравинского. Что же касается фортепианных миниатюр, то тут Черкасский всегда в своей стихии, и в этой стихии ему найдется мало равных. Как никто, умеет он находить интересные детали, высвечивать побочные голоса, оттенять обаятельную танцевальность, достигать зажигательного блеска в пьесах Рахманинова и Рубинштейна, Токкате Пуленка и «Тренировке зуава» Маны Зукка, «Танго» Альбениса и десятках других эффектных «мелочей».
Конечно, это – не главное в фортепианном искусстве, не на этом обычно строится репутация большого артиста. Но таков Черкасский – и он, как исключение, имеет «право на существование». А привыкнув к его игре, невольно начинаешь находить привлекательные стороны в других его трактовках, начинаешь понимать, что артист обладает своей, неповторимой и сильной индивидуальностью. И тогда его игра уже не вызывает раздражения, его хочется слушать еще и еще, даже отдавая себе отчет в художественной ограниченности артиста. Тогда понимаешь, почему некоторые весьма серьезные критики и знатоки фортепиано ставят его столь высоко, называют его, подобно Р. Каммереру, «наследником мантии И. Гофмана». Для этого, право, есть основания. «Черкасский, – писал Б. Джейкобс в конце 70-х годов – один из оригинальных талантов, он первозданный гений и, как некоторые другие в этом немногочисленном ряду, гораздо ближе к тому, что мы только сейчас вновь осознаем как истинный дух великих классиков и романтиков, чем многие „стильные“ порождения высушенного вкусового стандарта середины XX века. Этот дух предполагает высокую степень творческой свободы исполнителя, хотя свобода эта и не должна смешиваться с правом на произвол». Со столь высокой оценкой артиста согласны и многие другие специалисты.
Под руками Черкасского расцветает кантилена. Он способен окрашивать медленные части в фантастические звуковые краски, и, как мало кто другой знает толк в ритмических тонкостях. Но в самые ошеломляющие моменты он сохраняет тот жизненный блеск фортепианной акробатики, который заставляет слушателя в удивлении задавать вопрос: где берет этот маленький, щуплый человек такую необычайную энергию и напряженную упругость, которые позволяют ему победоносно штурмовать все вершины виртуозности? «Паганини фортепиано» по праву называют Черкасского за его волшебное искусство.
Штрихи портрета своеобразного артиста дополняет Э. Орга: «В своей лучшей форме Черкасский – законченный мастер фортепиано, и он вносит в свои интерпретации стиль и манеру, которые просто безошибочны. Туше, педализация, фразировка, чувство формы, выразительность побочных линий, благородство жестов, поэтическая интимность – все это в его власти. Он сливается с роялем, никогда не позволяя ему покорить себя; он говорит неторопливым голосом. Никогда не стремясь сделать что-либо спорное, он тем не менее не скользит по поверхности. Его спокойствие и уравновешенность дополняют это стопроцентное умение произвести большое впечатление. Может быть, ему не хватает сурового Аррау; нет у него и зажигательного обаяния Горовица. Но как артист он находит общий язык с публикой путем, который даже Кемпфу оказывается недоступным. И в своих высших достижениях он имеет такой же успех, как Рубинштейн. Например, в пьесах, вроде „Танго Альбениса“ он дает образцы, которые невозможно превзойти. Не слышать, как Черкасский играет эти пьесы, значит, упустить нечто такое, что просто невозможно описать словами. Это действительно уникальная виртуозность» .
Неоднократно – и в довоенную пору, и в 70-80-х годах, артист приезжал в СССР, и русские слушатели могли сами испытать на себе его артистическое обаяние, объективно оценить, какое место принадлежит этому необычному музыканту в пестрой панораме пианистического искусства наших дней » [33].
Владимир Горовиц (1903—1989)
Владимир Горовиц родился в Киеве в 1903 году (оговоримся, что в прессе иногда случаются «открытия», указывающие на это, т.к. в 40- томном словаре Гроу он, во-первых родился в Бердичеве, во-вторых – в 1904 г. – Авт ). С пяти лет начал заниматься игре на рояле под руководством матери, Софии Бодик-Горовиц, ученицы Владимира Вячеславовича Пухальского, в свою очередь, ученика Теодора Лешетицкого. С десяти лет – Владимир Горовиц, ученик Киевского музыкального училища (класс В.В.Пухальского). Официально, по документам, в 1918 году он перешел в класс ученика Аннет Есиповой – Сергея Тарновского, который уехал в конце весны 1918 г. гастролировать в Крым и отсутствовал до марта 1920 года, когда Владимир Горовиц перешел к Феликсу Блуменфельду. Именно так рассказывают документы [7]. Старший брат Владимира, Яков, учился в консерватории и был призван в армию в 1916 г. Судьба его не известна – в «Деле» Самоила Горовица, которое ему приходилось писать собствнноручно (думается, из-за неграмотности следователя) состав семьи: жена – Софья, дочь Регина, сыновья – Григорий, Владимир. Так как не упомянут Яков, становится ясно, что в семье его нет.
В 1920 году Владимир оканчивает Киевскую консерваторию, впрочем диплом об окончании он так и не получил, так как к этому времени сумел освоить только программу 2 класса гимназии. В конце 1921 г. Владимир Горовиц знакомится со скрипачем из Одессы, Натаном Мильштейном. Затем, в 1922 году в начале осени, его отец, Самоил Горовиц едет в Москву и, благодаря своему знакомству с основателем и концертмейстером оркестра «Персимфанс», Львом Цейтлиным, устраивает пианисту и скрипачу концерт с этим коллективом в ноябре 1922 года. Натан Миронович утверждает, что он играл Концерт для скрипки А. Глазунова, а Владимир Горовиц – 3-й Концерт С. Рахманинова. В действительности (исходя из Программы, опубликованной газетой «Известия») они вечером 27 ноября 1922 года играли: Концерт для скрипки с оркестром Ф. Мендельсона ми минор и 1-й Концерт для фортепиано с оркестром Ф. Листа ми-бемоль мажор.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: