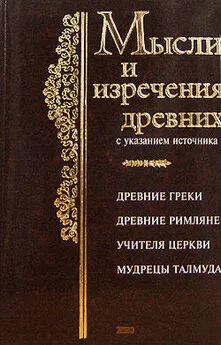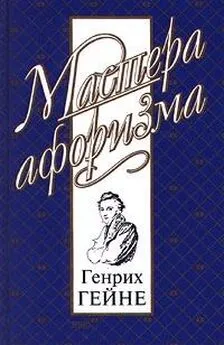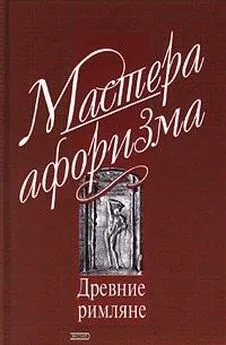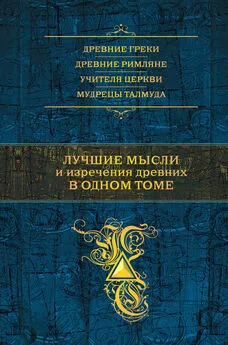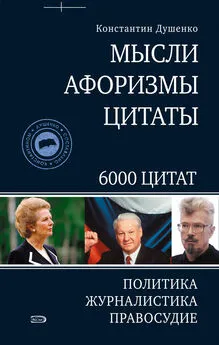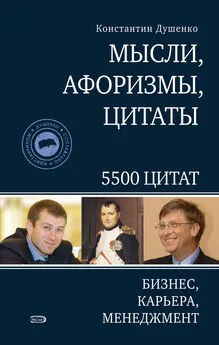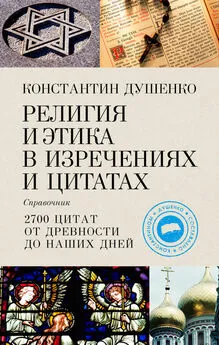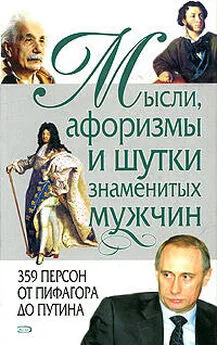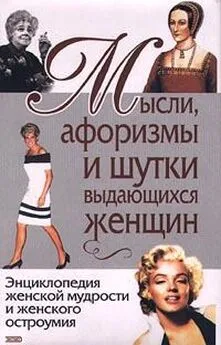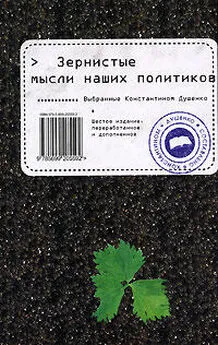Константин Душенко - Мысли и изречения древних с указанием источника
- Название:Мысли и изречения древних с указанием источника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Душенко - Мысли и изречения древних с указанием источника краткое содержание
Прежде всего: ее основным источником были не «готовые» сборники цитат, а сочинения самих древних авторов (как правило, в авторитетных русских изданиях). Это позволило очень существенно расширить спектр публикуемых мыслей и изречений.
Почти все цитаты взяты из прозаических сочинений.
Приводится точный источник всех изречений, включенных в книгу.
И, наконец, подробный указатель позволяет найти высказывания на самые разные темы - от «Ада» до «Ямба».
Тем самым читатель получает весьма представительную антологию мысли и красноречия древних, и в то же время - удобный в работе справочник.
Константин Душенко
Январь 2003г.
Мысли и изречения древних с указанием источника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(Диоген Лаэртский, II, 68) (49, с.125)
На вопрос Дионисия, почему философы ходят к дверям богачей, а не богачи – к дверям философов, он (Аристипп) ответил: «Потому что одни знают, что им нужно, а другие не знают».
(Диоген Лаэртский, II, 69) (49, с.125)
Кто-то привел к нему в обучение сына; Аристипп запросил пятьсот драхм. Отец сказал: «За эти деньги я могу купить раба!» – «Купи, – сказал Аристипп, – и у тебя будут целых два раба».
(Диоген Лаэртский, II, 72) (49, с.126)
Человека, который порицал роскошь его стола, он (Аристипп) спросил: «А разве ты отказался бы купить все это за три обола?» – «Конечно, нет», – ответил тот. «Значит, просто тебе дороже деньги, чем мне наслаждение».
(Диоген Лаэртский, II, 75) (49, с.127)
Заметив (...) Аристиппа, входящего вместе с сицилийским тираном Дионисием, (Антисфен) сказал: «Аристипп, если бы ты довольствовался такой пищей, как я, то тебе не пришлось бы следовать по пятам за тираном». (...) Аристипп возразил: «А если бы ты мог запросто беседовать с тираном, то не довольствовался бы такой пищей».
(«Латинская грамматика», VI) (16, с.113)
Дионисий дал ему (Аристиппу) денег, а Платону – книгу; в ответ на упреки Аристипп сказал: «Значит, мне нужнее деньги, а Платону – книга».
(Диоген Лаэртский, II, 81) (49, с.129)
Право же, щедрость никогда не разорит Дионисия (правителя Сиракуз): нам, которые просят много, он дает мало, а Платону, который ничего не берет, – много.
(Плутарх. «Дион», 19) (128, с.454)
Когда преподавание принесло ему (Аристиппу) много денег, Сократ спросил его: «За что тебе так много?» А он ответил: «За то же, за что тебе так мало».
(Диоген Лаэртский, II, 80) (49, с.129)
Однажды Аристипп плыл на корабле; захваченный бурей, он сильно перепугался. Один из спутников спросил его: «И ты, Аристипп, трусишь, как все?» А он: «И с полным правом: вас эта опасность заставляет тревожиться за вашу бедственную жизнь, а меня – за мою блаженную».
(Элиан. «Пестрые рассказы», IХ, 20) (178, с.280)
Аристотель
Аристотель из Стагиры (п-ов Халкидика) (384–322 до н. э.), ученик Платона, воспитатель Александра Македонского, основатель школы перипатетиков. Его сочинения охватывают все области тогдашнего знания.
Об избрании (на государственные посты) всегда хлопочут не столько порядочные, сколько случайные.
«Афинская полития», 27, 4 (17, с.39–40)
Добродетель (...) есть некая середина между противоположными страстями. (...) Оттого и трудно быть достойным человеком, ведь в любом деле трудно держаться середины.
«Большая этика», I, 9, 1186b (22, с.308)
Человек с чувством юмора – это и тот, кто умеет отпустить меткую шутку, и тот, кто переносит насмешки.
«Большая этика», I, 30, 1193a (22, с.323)
Бог выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше бога.
«Большая этика», II, 5, 1200b (22, с.342)
Вопреки мнению некоторых, не разум – начало и руководитель добродетели, а, скорее, движения чувств.
«Большая этика», II, 7, 1206b (22, с.357)
Самому любить лучше, чем быть любимым: любить – это некое действие, доставляющее наслаждение, и благо, а быть любимым не вызывает в предмете любви никакой деятельности. (...) Тем не менее люди из честолюбия предпочитают быть любимцами, а не сами любить, поскольку быть любимцем связано с каким-то превосходством.
«Большая этика», II, 11, 1210b (22, с.366–367)
Дурной (...) (человек) никогда не бывает себе другом, он всегда во вражде с самим собой.
«Большая этика», II, 11, 1211a (22, с.269)
Почему отец любит сына сильнее, чем сын отца? (...) Потому что сын – его создание. (...) Все бывают благосклонны к тому, что они сами создали.
«Большая этика», II, 12, 1211b (22, с.369–370)
Узнать самого себя – это и самое трудное, (...) и самое радостное, (...) но самих себя своими силами мы не можем видеть (...); при желании видеть свое лицо мы смотримся в зеркало (...), при желании познать самих себя мы можем познать себя, глядя на друга. Ведь друг, как мы говорим, это «второе я». (...) Знать себя невозможно без помощи друга.
«Большая этика», II, 15, 1212a (22, с.373)
Ярость выводит человека из себя. Вот почему и поведение кабанов имеет вид смелости, хотя это и не настоящая смелость.
«Евдемова этика», III, 1, 1229a (18, с.154)
Кто не принимает во внимание ничье мнение, тот бесстыжий, кто принимает к сердцу все мнения без разбора, тот робок.
«Евдемова этика», III, 7, 1233b (18, с.161)
Имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием.
«Метафизика», I, 2, 981a (19, с.66)
Опыт есть знание единичного, а искусство – знание общего.
«Метафизика», I, 2, 981a (19, с.66)
Признак знатока – способность научить.
«Метафизика», I, 2, 981b (19, с.66)
Владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны.
«Метафизика», I, 2, 981b (19, с.67)
Одни (искусства) – для удовлетворения необходимых потребностей, другие – для времяпрепровождения; изобретателей последних мы всегда считаем более мудрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания были обращены не на получение выгоды.
«Метафизика», I, 2, 981b (19, с.67)
Мудрость (...) занимается причинами и началами.
«Метафизика», I, 2, 981b (19, с.67)
Более мудр во всякой науке тот, кто более точен и более способен научить выявлению причин.
«Метафизика», I, 2, 982a (19, с.68)
Удивление побуждает людей философствовать.
«Метафизика», I, 2, 982b (19, с.69)
Знание о чем бы то ни было есть знание общего.
«Метафизика», III, 6, 1003a (19, с.118)
Для счастья (...) нужна и полнота добродетели, и полнота жизни.
«Никомахова этика», I, 10, 1100a (22, с.69)
Может быть, (...) вообще никого не следует считать счастливым, покуда он жив (...)? Если в самом деле признать такое, то не будет ли человек счастлив лишь тогда, когда он умер?
«Никомахова этика», I, 10, 1100a (22, с.69)
Камень, который по природе падает вниз, не приучишь подниматься вверх, приучай его, подбрасывая вверх хоть тысячу раз.
«Никомахова этика», II, 1, 1103a (22, с.78)
Добродетель мы обретаем, прежде что-нибудь осуществив, так же как и в других искусствах. (...) Строя дома, становятся зодчими, а играя на кифаре – кифаристами. Именно так, совершая правые поступки, мы делаемся правосудными, поступая благоразумно – благоразумными, действуя мужественно – мужественными. (...) Короче говоря, повторение одинаковых поступков порождает соответствующие нравственные устои.
«Никомахова этика», II, 1, 1103a —1103b (22, с.78–79)
Искусство и добродетель всегда рождаются там, где труднее.
«Никомахова этика», II, 2, 1105a (22, с.82)
Совершать проступок можно по-разному (...), между тем как поступать правильно можно только одним-единственным способом (недаром первое легко, а второе трудно, ведь легко промахнуться, трудно попасть в цель).
«Никомахова этика», II, 5, 1106b (22, с.86)
Мужественные совершают поступки во имя прекрасного. (...) В противном случае мужественными, пожалуй, окажутся даже голодные ослы, ведь они и под ударами не перестают пастись.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: