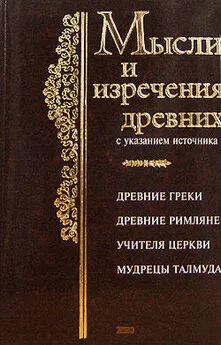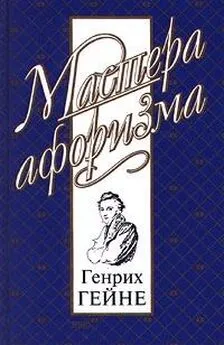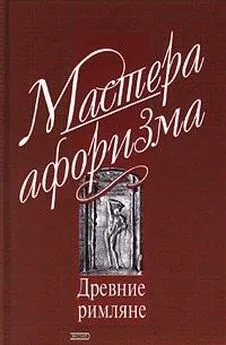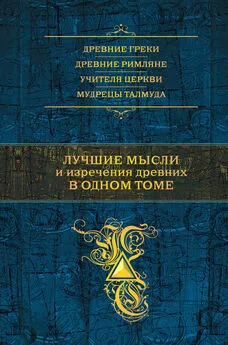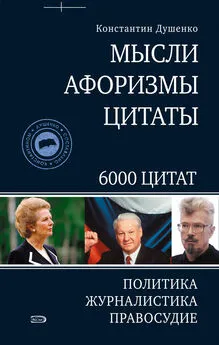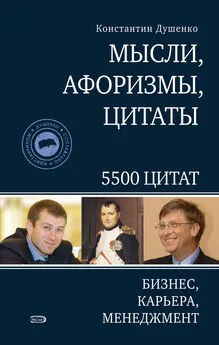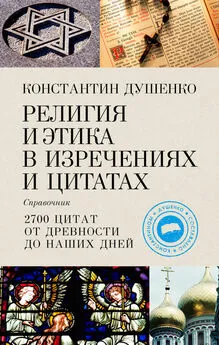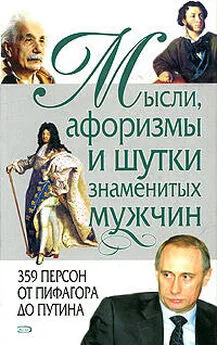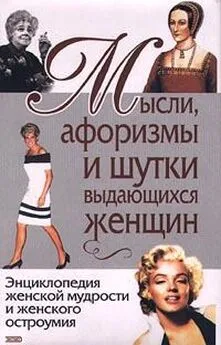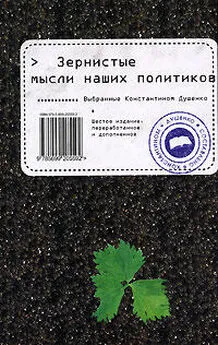Константин Душенко - Мысли и изречения древних с указанием источника
- Название:Мысли и изречения древних с указанием источника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Душенко - Мысли и изречения древних с указанием источника краткое содержание
Прежде всего: ее основным источником были не «готовые» сборники цитат, а сочинения самих древних авторов (как правило, в авторитетных русских изданиях). Это позволило очень существенно расширить спектр публикуемых мыслей и изречений.
Почти все цитаты взяты из прозаических сочинений.
Приводится точный источник всех изречений, включенных в книгу.
И, наконец, подробный указатель позволяет найти высказывания на самые разные темы - от «Ада» до «Ямба».
Тем самым читатель получает весьма представительную антологию мысли и красноречия древних, и в то же время - удобный в работе справочник.
Константин Душенко
Январь 2003г.
Мысли и изречения древних с указанием источника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«О гневе», III, 16 (148, с.161)
Если благоразумный человек сказал что-то неприятное нам – поверим ему; если дурак – простим.
«О гневе», III, 24 (148, с.167)
Признак истинного величия – не ощущать ударов. Так огромный зверь не спеша оглядывается и спокойно взирает на лающих собак.
«О гневе», III, 25 (148, с.168)
Все, что не нравится нам в других, каждый из нас может, поискав, найти в себе самом. (...) Нужно быть терпимее друг к другу: нам приходится жить дурными среди дурных.
«О гневе», III, 26 (148, с.169)
Гневаемся все мы дольше, чем ощущаем причиненную (нам) боль.
«О гневе», III, 27 (148, с.169)
Иногда боль, а иногда случай делают слабого сильнее самого сильного.
«О гневе», III, 28 (148, с.170)
Большая часть того, что вызывает в нас гнев, – это препятствия, а не удары.
«О гневе», III, 28 (148, с.170)
Неправость нашего гнева делает его более упорным: мы расходимся все пуще и не желаем перестать, словно сила нашей вспышки может служить доказательством ее справедливости.
«О гневе», III, 29 (148, с.171)
Никогда не будет счастлив тот, кого мучит мысль, что есть кто-то счастливее. Я получил меньше, чем надеялся? – но, может быть, я надеялся на большее, чем заслуживал.
«О гневе», III, 30 (148, с.171)
Среди убийц божественного Юлия было больше друзей, чем недругов, ибо он не исполнил их неисполнимых надежд. (...) Вот так и вышло, что он увидал вокруг своего кресла своих бывших соратников с обнаженными мечами, (...) ставших помпеянцами лишь после смерти Помпея.
«О гневе», III, 30 (148, с.171)
Кто смотрит на чужое, тому не нравится свое.
«О гневе», III, 31 (148, с.172)
Человек, завидующий немногим, не видит за собственной спиной огромного скопления зависти всех тех, кому далеко до него.
«О гневе», III, 31 (148, с.172)
Ты лучше благодари за то, что получил. Остального жди и радуйся, что не получил всего.
«О гневе», III, 31 (148, с.172)
Ты ведешь неверные записи в своей расчетной книге: то, что ты дал, оцениваешь дорого, то, что получил, – дешево.
«О гневе», III, 31 (148, с.172)
Деньги насквозь пропитаны нашей кровью.
«О гневе», III, 33 (148, с.172)
Насколько достойнее смеха то, из-за чего мы то и дело льем слезы!
«О гневе», III, 33 (148, с.173)
Поверь мне, все, что зажигает нас страшным пожаром, – сущие пустяки, не серьезнее тех, из-за которых дерутся и ссорятся мальчишки.
«О гневе», III, 34 (148, с.173)
Кто никогда ничему не выучился, тот не хочет ничему учиться.
«О гневе», III, 36 (148, с.174–175)
Этого ты предостерег правильно, но чересчур свободным тоном: и вместо того, чтобы исправить, обидел человека. На будущее смотри не только то, правду ли ты говоришь, но и на того, кому говоришь: переносит ли он правду.
«О гневе», III, 36 (148, с.175)
Баловень счастья (...) считает, что труднодоступная дверь – первый признак блаженного и могущественного человека. Видимо, он не знает, что труднее всего открываются ворота тюрьмы.
«О гневе», III, 37 (148, с.175)
Ты косо глядишь на кого-то из-за того, что он дурно говорил о твоем таланте. Неужели ты считаешь каждое его слово законом? И неужели Энний (римский трагик) должен возненавидеть тебя оттого, что его поэмы не доставляют тебе удовольствия, (...) а Цицерон – стать твоим врагом из-за того, что ты пошутил насчет его стихов?
«О гневе», III, 37 (148, с.175)
Первую вспышку гнева мы не осмелимся унимать словами. Она глуха и безумна. (...) Лекарства приносят пользу, если давать их в промежутках между приступами.
«О гневе», III, 39 (148, с.176)
Гнев, (...) когда окостенеет, затвердеет, (...) превращается в ненависть.
«О гневе», III, 41 (148, с.177)
В перерывах между утренними зрелищами нам обычно показывают на арене сражение привязанных друг к другу быка и медведя: они рвут и терзают друг друга, а рядом их поджидает человек, которому поручено в конце прикончить обоих. То же самое делаем и мы, нанося удары людям, с которыми мы связаны, а рядом с победителем и побежденным уже стоит их конец, причем очень близкий. Нам ведь осталось-то столечко! Что бы нам прожить эту капельку времени в мире и покое!
«О гневе», III, 43 (148, с.178)
Часто ссору прекращает раздавшийся по соседству крик «Пожар!».
«О гневе», III, 43 (148, с.178)
Что хуже смерти можешь ты пожелать тому, на кого гневаешься? Так успокойся: он умрет, даже если ты палец о палец не ударишь.
«О гневе», III, 43 (148, с.178)
Я скорее прощу того, кто нанес врагу рану, а не того, кто мечтает посадить ему чирей: тут уже не только злая, но и ничтожно мелкая душонка.
«О гневе», III, 43 (148, с.178–179)
О сколь презренная вещь – человек, если не поднимается он выше человеческого!
«О природе», I, предисловие, 5 (148, с.182)
Что такое бог? – Все, что видишь, и все, чего не видишь.
«О природе», I, предисловие, 13 (148, с.184)
Уже старик, он (Ганнибал) не переставал искать войны в любом уголке света: настолько, обходясь без родины, не мог он обходиться без врага.
«О природе», III, предисловие, 6 (148, с.251)
Нет числа тем, кто владел народами и городами; тех, кто владел собой, можно перечесть по пальцам.
«О природе», III, предисловие, 10 (148, с.252)
Все происходит по божественному определению: плакать, стонать и жаловаться – значит отпасть от бога.
«О природе», III, предисловие, 12 (148, с.252)
Свободен тот, кто избежал рабства у самого себя: это рабство – постоянное и неодолимое, день и ночь равно гнетущее, без передышки, без отпуска.
«О природе», III, предисловие, 16 (148, с.253)
Быть рабом самого себя – тяжелейшее рабство.
«О природе», III, предисловие, 17 (148, с.253)
Добродетель найти трудно, требуется и наставник и руководитель; а порокам живо выучиваются без всякого учителя.
«О природе», III, 30, 8 (148, с.278)
Если я и бываю доверчив, то только до известной степени и принимаю лишь те маленькие выдумки, за которые бьют по губам, а не вырывают глаза.
«О природе», IV, 4, 1 (148, с.294)
Люди растрачивают всю свою жизнь, чтобы достать то, что им будто бы нужно для жизни.
«О природе», V, 18, 16 (148, с.314)
Изящно возразил мудрый (Гай) Лелий какому-то человеку, сказавшему: «В мои шестьдесят лет...» – «Скажи лучше „не мои шестьдесят“». Привычка исчислять утраченные нами годы мешает нам понять, что суть жизни – в ее неуловимости, а удел времени – всегда оставаться не нашим.
«О природе», VI, 32, 11 (148, с.343)
Покамест все идет как обычно, грандиозность происходящего скрадывается привычкой. Так уж мы устроены, что повседневное, будь оно даже достойно всяческого восхищения, нас мало трогает. (...) У солнца нет зрителей, пока оно не затмится. (...) Настолько больше свойственно нам от природы восхищаться новым, нежели великим.
«О природе», VII, 1, 1; VII, 1, 4 (148, с.343, 344)
Кто думает, будто природа может делать лишь то, что она делает часто, тот сильно недооценивает ее возможности.
«О природе», VII, 27, 5 (148, с.363)
Люди грядущего поколения будут знать многое, неизвестное нам, и многое останется неизвестным для тех, кто будет жить, когда изгладится всякая память о нас. Мир не стоит ломаного гроша, если в нем когда-нибудь не останется ничего непонятного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: