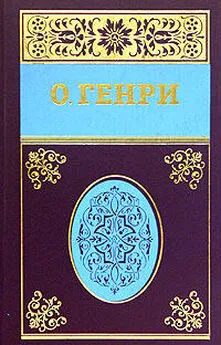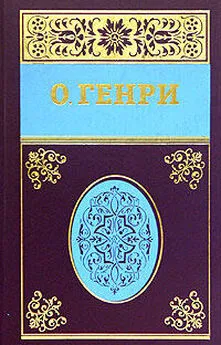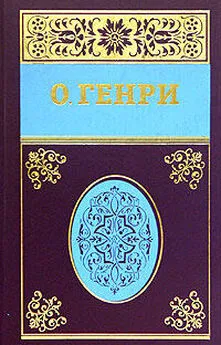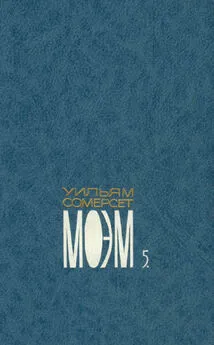Курцио Малапарте - Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5. (кн. 1) Переводы зарубежной прозы.
- Название:Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5. (кн. 1) Переводы зарубежной прозы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм-Книга
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9265-0154-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Курцио Малапарте - Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5. (кн. 1) Переводы зарубежной прозы. краткое содержание
Том 5 (кн. 1) продолжает знакомить читателя с прозаическими переводами Сергея Николаевича Толстого (1908–1977), прозаика, поэта, драматурга, литературоведа, философа, из которых самым объемным и с художественной точки зрения самым значительным является «Капут» Курцио Малапарте о Второй Мировой войне (целиком публикуется впервые), произведение единственное в своем роде, осмысленное автором в ключе общехристианских ценностей. Это воспоминания писателя, который в качестве итальянского военного корреспондента объехал всю Европу: он оказывался и на Восточном, и на Финском фронтах, его принимали в королевских домах Швеции и Италии, он беседовал с генералитетом рейха в оккупированной Польше, видел еврейские гетто, погромы в Молдавии; он рассказывает о чудотворной иконе Черной Девы в Ченстохове, о доме с привидением в Финляндии и о многих неизвестных читателю исторических фактах. Автор вскрывает сущность фашизма. Несмотря на трагическую, жестокую реальность описываемых событий, перевод нередко воспринимается как стихи в прозе — настолько он изыскан и эстетичен.
Эту эстетику дополняют два фрагментарных перевода: из Марселя Пруста «Пленница» и Эдмона де Гонкура «Хокусай» (о выдающемся японском художнике), а третий — первые главы «Цитадели» Антуана де Сент-Экзюпери — идеологически завершает весь связанный цикл переводов зарубежной прозы большого писателя XX века.
Том заканчивается составленным С. Н. Толстым уникальным «Словарем неологизмов» — от Тредиаковского до современных ему поэтов, работа над которым велась на протяжении последних лет его жизни, до середины 70-х гг.
Собрание сочинений в пяти томах (шести книгах). Т.5. (кн. 1) Переводы зарубежной прозы. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но поскольку в рассуждении не будет ничего, кроме кирпича, камня и черепицы, нет души и сердца их превосходящих и изменяющих могуществом своим в тишину, как душа и сердце ускользают от рассуждений логики и законов, выражаемых числами, так и прихожу я с самоуправством моим. Я — архитектор. Я — обладающий душой и сердцем. Я — единственный, обладающий могуществом создавать из камней тишину. Я прихожу и замешиваю это тесто, которое не больше чем материал, согласно образу создания, приходящему ко мне от одного лишь Бога и существующему вне законов логических. Я строю мою государственность, охваченный тем пристрастием, которое надлежит отражать ей, как иные создают свою поэму, переворачивая фразу и заменяя слово, не испытывая нужды оправдать перед кем-то эту замену и этот поворот, охваченные только тем пристрастием, что ведомо сердцам их.
Ибо я — руководитель. И я пишу законы и учреждаю праздники, и назначаю жертвоприношения, и из их овец, из их коз, из их жилищ и из их гор я создаю эту государственность, напоминающую дворец отца моего, где все шаги были исполнены смысла. Ибо без меня — что стали бы делать они с кучей камней, перемещая ее справа налево, если не новую кучу камней, сложенных еще хуже? Я же управляю и я избираю. И я один — для того, чтобы управлять. И вот они могут молиться в тишине и в тени, которыми они обязаны моим камням. Моим камням, уложенным согласно образу, хранимому в сердце моем.
Я — руководитель. Я — учитель. Я — ответственный. И я прошу их помогать мне. Прошу, хорошо понимая, что руководитель — вовсе не тот, кто спасает остальных, но тот, кто просит его самого спасти. Ибо это через меня, через образ, который я несу в себе, основывается единство; мной, мной одним создаваемое единство моих овец, моих коз, моих жилищ, моих гор, то единство, которым вот они увлеклись уже, как увлеклись бы юной богиней, открывшей свежие объятия свои в солнечных лучах и которую они сперва не узнали. И вот они уже любят дом, который я изобрел согласно желанию моему. И сквозь него любят меня — архитектора. Равно как тот, кто любит статую, не любит ни глину, ни камень, ни бронзу, но — работу скульптора. И я вызываю в них привязанность к их жилищу, в тех, кто принадлежит к моему народу, чтобы научились они узнавать его. Но они не могут научиться узнавать его до тех пор, пока оно не будет вскормлено их кровью. И украшено жертвами их. Да, оно потребует от них даже и крови, и тела их, ибо станет для них полным значения. И тогда не смогут они не узнавать это строение божественное, напоминающее Лик. И почувствуют они любовь к нему. И вечери их станут ревностными. И отцы, едва только сыновья их раскроют глаза и уши, озаботятся, прежде всего, показать им его, чтобы оно не утонуло более в пучине различных вещей, не связанных меж собою.
И я сумел создать жилище мое достаточно просторным, чтобы придать смысл даже и звездам. И если они подвергнутся опасности, ночью, на пороге своем, то поднимут голову и воздадут хвалу Богу за то, что так хорошо руководит Он кораблями своими. И если я создам постройку достаточно прочную, чтобы она охватывала жизнь их в прочности своей, то будут они идти от праздника к празднику, как из приемной в приемную, твердо зная куда идут они и прозревая сквозь все различия жизненные лик Божий.
Цитадель! Я построил тебя как корабль, я сшил тебя гвоздями, оснастил и спустил на воду ожидать времени попутного ветра.
Корабль людей, не имея которого они пропустили бы вечность!
Но я знаю те угрозы, которые поднимаются против корабля моего. Всегда шквалы подстерегают его на мрачном море, в открытых водах. И рисуются другие возможные картины несчастий. Ибо всегда остается мысль о том, чтобы разрушить храм и взять часть камней его для другого храма. И этот другой не будет более истинный или более ложный, ни более справедливый, ни более несправедливый. И никто не познает бедствия, ибо качество тишины не записано в куче камней.
Вот отчего я хочу, чтобы они подняли на плечи и поддержали капитана корабля. Затем, чтобы спасти их из рода в род, я хочу этого, ибо никогда не смогу я украсить храм мой, если ежеминутно буду я заново начинать строительство.
Марсель Пруст
Отрывок из романа «Пленница», входящего в эпопею «В поисках утраченного времени»
…Вы увидите у Стендаля некое ощущение высоты над уровнем моря, сливающееся с духовной жизнью. Это возвышенное место, где Жюльен Сорель находится в заключении, башня, в верхней части которой заточен Фабрицио, колокольня, где аббат Бланес занимается астрологией и откуда Фабрицио так прекрасно охватывает взором все кругом. Вы говорили мне, что видели известные картины Вермеера, — так отдаете ли вы себе отчет, что все это — фрагменты одного и того же мира, что это всегда — при всей гениальности, с которой они воссозданы, — тот же стол, тот же ковер, та же женщина, та же новая и единственная красота, загадочная в данную эпоху, когда ничто более не сходствует с ней и не объясняет ее, если не искать ее родственной близости с другими лицами, а выделять лишь впечатление, вызываемое красками. Так вот эта новая красота — она остается идентичной и во всех творениях Достоевского. Женщина Достоевского столь же отличная от прочих, как и женщина Рембрандта, с ее таинственным лицом, располагающая к себе красота которого внезапно меняется так, как будто она играла комедию добра, претворяясь в ужасающую наглость (даром, что в сущности своей она, кажется, действительно, скорее, добра), — не правда ли, ведь это всегда одна и та же: будь то Настасья Филипповна, пишущая свои влюбленные письма Аглае, и, вместе, сознающаяся, что она ее ненавидит, или та же Настасья Филипповна, оскорбляющая родителей Гани; или Грушенька, столь кроткая у Катерины Ивановны, которую эта последняя всегда считала такой ужасной и вдруг сразу обнаруживающая свою злобу и оскорбляющая Катерину Ивановну (даром, что и Грушенька ведь по существу-то добрая)? Грушенька, Настасья — это лица такие своеобразные, они вовсе не таковы только, как куртизанки Карпаччио, но, скорее, похожи на Вирсавию Рембрандта. И, заметьте, он, конечно, и сам не знал, что эти сверкающие лица раздваиваются при внезапных вспышках гордости, которая заставляет женщину показаться иной, чем она есть на самом деле («ты не такая», — говорит Мышкин Настасье при ее визите к родителям Гани, и Алеша мог бы то же самое сказать Грушеньке во время ее прихода к Катерине Ивановне).
Но зато, словно в виде реванша, когда наш автор хочет дать «идею картины», эти идеи всегда глуповаты и говорят нам не больше, чем о картинах, на которых Мышкин хотел бы видеть представленным осужденного на смерть, в момент, когда… и так далее, Святую Деву — в момент, когда… и так далее. Но чтобы возвратиться к новой красоте, которую Достоевский принес в мир, как это было раньше у Вермеера, тут должно быть сотворение некоей души, некого цвета одежд и мест. У Достоевского мы находим не одно лишь создание существ, но также и жилищ: и Дом Убийства в «Братьях Карамазовых», с его дворником, — не столь же ли он чудесен, как шедевр Дома Убийства в «Идиоте», — этот мрачный, и такой длинный, и такой высокий, и такой обширный дом Рогожина, где он убивает Настасью Филипповну? Эта новая и ужасная красота дома, эта новая и смешанная красота женского лица — вот то неповторимое, что Достоевский принес в мир, и все сближения, которые могут делать литературные критики, сравнивая его с Гоголем, или сравнивая с Поль де Коком, не представляют никакого интереса, поскольку находятся вне этой тайной красоты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: