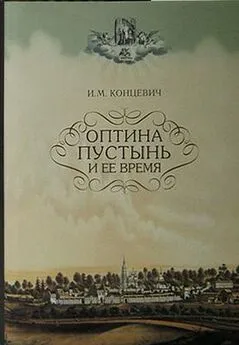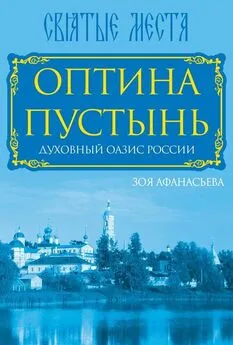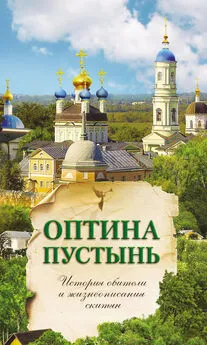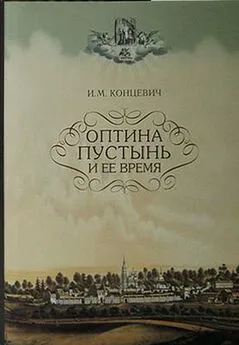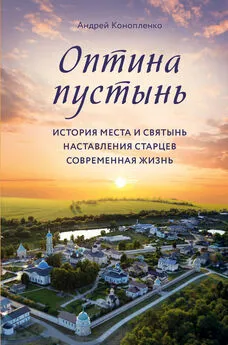Иван Концевич - Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Оптина Пустынь и ее время
- Название:Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Оптина Пустынь и ее время
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт русской цивилизации
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Концевич - Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Оптина Пустынь и ее время краткое содержание
ISBN 978-5-902725-43-5
Институт русской цивилизации, 2009.
Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Оптина Пустынь и ее время - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После смерти старца Льва брат Александр стал келейником старца Макария (1841-46). В 1842 г. он был пострижен в мантию и наречен Амвросием (память 7 декабря). Затем последовало иеродиаконство (1843), а через 2 года (1845) — рукоположение в иеромонахи.
Для этой цели (посвящения) о. Амвросий поехал в Калугу. Был сильный холод. О. Амвросий, изнуренный постом, схватил сильную простуду, отразившуюся на внутренних органах. С этих пор он уже никогда не мог поправиться по-настоящему.
Вначале, когда о. Амвросий еще как-то держался, однажды приезжал в Оптину преосв. Николай Калужский. Он сказал о. Амвросию: «А ты помогай о. Макарию в духовничестве. Он уж стар становится. Ведь это тоже наука, только не семинарская, а монашеская». О. Амвросию было тогда 34 года. Ему часто приходилось иметь дело с посетителями, передавать старцу их вопросы и давать от старца ответы. Так было до 1846 г., когда после нового приступа своего недуга о. Амвросий был вынужден по болезни выйти за штат, будучи признан неспособным к послушаниям и стал числиться на иждивении обители как инвалид. Он с тех пор уже не мог совершать литургии; еле передвигался, страдал от испарины, так что переодевался и переобувался по несколько раз в сутки. Не выносил холода и сквозняков. Пищу употреблял жидкую, перетирал теркой, вкушал очень мало.
Несмотря на болезнь, о. Амвросий остался по прежнему в полном послушании у старца, даже в малейшей вещи давал отчет ему.
Теперь на него была возложена переводческая работа, приготовление к изданию святоотеческих книг. Им была переведена на легкий общепонятный славянский язык «Лествица» Иоанна, игумена Синайского.
«Можно думать, — говорит составитель его жития, — что эти книжные занятия имели для о. Амвросия и весьма воспитательное значение в жизни духовной. Один из участников этих занятий, между прочим, пишет: «Как щедро были мы награждены за малые труды наши! Кто из внимающих себе не отдал бы нескольких лет жизни, чтобы слышать то, что слышали уши наши: это объяснения Старца Макария на такие места писаний отеческих, о которых, не будь этих занятий, никто не посмел бы и вопросить его; а если бы и дерзнул на сие, то несомненно получил бы смиренный ответ: «Я не знаю сего, это не моей меры; может быть ты достиг ее, а я знаю лишь: даруй ми, Господи, зрети моя прегрешения! Очисти сердце, тогда и поймешь».
Этот период жизни о. Амвросия являлся как самый благоприятный для прохождения им искусства из искусств — умной молитвы. Однажды старец Макарий спросил своего любимого ученика о. Амвросия: «Угадай, кто получил свое спасение без бед и скорбей?» Сам старец Амвросий приписывал такое спасение своему руководителю старцу Макарию. Но в жизнеописании этого старца сказано, что «прохождение им умной молитвы, по степени тогдашнего духовного его возраста, было преждевременным и едва не повредило ему».
Главною причиною сего было то, что о. Макарий не имел при себе постоянного руководителя в этом высоком духовном делании. Отец же Амвросий имел в лице о. Макария опытнейшего духовного наставника, возшедшего на высоту духовной жизни. Поэтому он мог обучаться умной молитве действительно «без бед», т.е. минуя козни вражия, вводящие подвижника в прелесть, и «без скорбей», приключающихся вследствие наших ложно-благовидных желаний, которыми мы себя часто обманываем. Внешние же скорби (как болезнь) считаются подвижниками полезными и душеспасительными. Да и вся, с самого начала, иноческая жизнь о. Амвросия под окормлением мудрых старцев шла ровно, без особых преткновений, направляемая к большему и большему совершенствованию духовному.
А что стяжание при помощи Божией высокой умной молитвы есть, так сказать, венец, или завершение спасения, содеваемого на земле человеком, можно видеть из слов Иоанна Лествичника, который определил молитву «пребыванием и соединением человека с Богом; ибо кто соединился с Богом и пребывает в Нем, тот, хотя еще находится в сем бренном теле, но уже спасен».
Что слова о. Макария относились к о. Амвросию, можно видеть еще и из того, что о. Амвросий в последние годы жизни своего старца достиг уже высокого совершенства в жизни духовной. Ибо как в свое время старец Лев называл о. Макария святым, так же теперь и старец Макарий относился к о. Амвросию.
Но это не мешало ему подвергать его ударам по самолюбию, воспитывая в нем строгого подвижника нищеты, смирения, терпения и др. иноческих добродетелей. Когда однажды за о. Амвросия заступились: «Батюшка, он человек больной!» — «А я разве хуже тебя знаю? — скажет старец. — Но ведь выговоры и замечания монаху это щеточки, которыми стирается греховная пыль с его души; а без сего монах заржавеет».
Еще при жизни старца, с его благословения, некоторые из братии приходили к о. Амвросию для откровения помыслов.
Вот как об этом рассказывает о. игумен Марк (впоследствии окончивший жизнь на покое в Оптиной): «Сколько мог я заметить, — говорит он, — о. Амвросий жил в это время в полном безмолвии. Ходил я к нему ежедневно для откровения помыслов и почти всегда заставал его за чтением святоотеческих книг; если же не заставал его в келье, то это значило, что он находится у старца Макария, которому помогал в корреспонденции с духовными чадами, или трудился в переводах святоотеческих книг. Иногда же я заставал его лежащим на кровати и слезящим, но всегда сдержанно и едва приметно. Мне казалось, что старец всегда ходил перед Богом, или как бы всегда ощущал присутствие Божие, по слову псалмопевца: «предзрех Господа предо мною выну» (Пс. 15, 8), а потому все, что ни делал, старался Господа ради и в угодность Господу творить. Чрез сие он всегда был сетованен, боясь как чем не оскорбить Господа, — что отражалось и на лице его. Видя такую сосредоточенность своего старца, я в присутствии его всегда был в трепетном благоговении. Да иначе мне и нельзя было быть. Ставшему мне по обыкновению пред ним на колена и получившему благословение, он бывало весьма тихо сделает вопрос: “Что скажешь, брате, хорошенького?” Озадаченный его сосредоченностью и благоумилением, я бывало скажу: “Простите, Господа ради, батюшка, м. б. я не вовремя пришел?” — “Нет, — скажет старец, — говори нужное, но вкратце”. И, выслушав меня со вниманием, преподаст полезное наставление с благословением и отпустит с любовью. Наставления же он преподавал не от своего мудрования и рассуждения, хотя и богат был духовным разумом. Если он учил духовно относившихся к нему, то в чине учащегося, и предлагал не свои советы, а непременно деятельное учение свв. Отцов». Если же о. Марк жаловался о. Амвросию на кого-либо обидевшего его: «Старец, бывало, скажет плачевным тоном: “Брате, брате! я человек умирающий”. Или: “Я сегодня-завтра умру. Что я сделаю с этим братом? Ведь я не настоятель. Надобно укорять себя, смиряться пред братом, — и успокоишься”. Такой ответ вызывал в душе о. Марка самоукорение и он, смиренно поклонившись Старцу и испросив прощение, уходил успокоенный и утешенный, “как на крыльях улетал”».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: