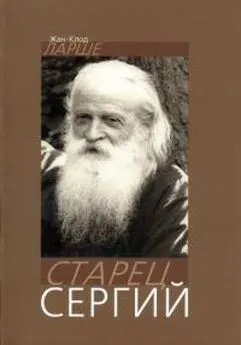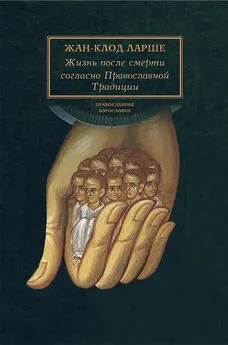Жан-Клод Ларше - Преподобный Силуан Афонский
- Название:Преподобный Силуан Афонский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Клод Ларше - Преподобный Силуан Афонский краткое содержание
Преподобный Силуан Афонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но душа может пребывать в ожидании ответа на свое чаяние и на свои молитвы гораздо дольше: «И много, много лет трудится душа, ища той благодати, которую вкусила и которою усладилась» (с. 451).
II. Опыт богооставленности у отцов восточной церкви
Опыт богооставленности редко упоминается в творениях святых отцов, но даже когда это происходит, они не пишут о нем с той широтой и весомостью, какие придает ему в сочинениях святой Силуан, где, как мы видели, этот опыт оказывается доминирующей и повсеместно присутствующей темой.
Одна из причин – в том, что отцы, как правило, неохотно говорят о самих себе и обычно проявляют сдержанность и строгость в описании собственного духовного опыта. Святой Силуан в этом плане отличается от них и, если называть его предшественников, то среди латинских отцов это блаженный Августини преподобный Симеон Новый Богослов– среди греческих. Вероятно, дело в том, что опыт преподобного Силуана исходно основывается на видении Бога и на восприятии полноты благодати – насколько это возможно в нашем мире, а такой опыт знаком очень немногим даже среди святых отцов.
Вот почему большинство из них говорят о богооставленности в ином контексте и на ином уровне восприятия – по сравнению с тем, что пережито святым Силуаном; они упоминают о ней в более общей форме и, если можно так выразиться, более умозрительно, в порядке духовного наставления, часто заимствованного у предшественников и нацеленного в первую очередь на то, чтобы помочь тем, кому дано будет неожиданно пережить такой опыт, распознать его подлинную природу.
Прежде всего отметим – хотя речь не идет о богооставленности в собственном смысле слова, – что отцы часто говорят о неизбежном чередовании в духовной жизни периодов, когда благодать дает чувствовать свое присутствие, и периодов горести, когда болезненно ощущается ее отсутствие. Это чередование, которое на различных уровнях знакомо всем христианам, ведущим глубокую духовную жизнь, и которое сам Силуан знал на протяжении множества лет 302, символически упоминает Оригенв 27-й беседе на Книгу Чисел, когда толкует различные этапы хождения народа Божьего по пустыне.
Святой Макарий Египетскийболее прозрачно говорит об этом чередовании, отмечая, что оно обретает свой смысл в божественном домостроительстве, знающем, что полезно человеку: «...[благодать], сопребывающая в человеке, делается чем-то как бы естественным и неотделимым, как бы единою с ним сущностью; однако же, как ей угодно, различно видоизменяет она свои действия в человеке к его пользе. Иногда огонь сей возгорается и воспламеняется сильнее, а иногда как бы слабее и тише, в иные времена свет сей возжигается и сияет более, иногда же умаляется и меркнет; и светильник сей, всегда горя и светя, иногда делается яснее, более возгорается от упоения Божиею любовью, а в другое время издает сияние свое бережливо, и соприсущий в человеке свет бывает слабее» 303. Он же утверждает, что утрата благодати может следовать за очень насыщенным опытом благодати, в котором человек в экстатическом видении света, как кажется, достиг высшей ступени духовной жизни. Во фрагменте текста, где, подобно апостолу Павлу в рассказе о своем видении, святой Макарий использует третье лицо, он, скорее всего, вспоминает опыт, пережитый им самим: «Иногда также являлось как бы светоносное некое одеяние, какого нет на земле в веке сем и какого не могут приготовить руки человеческие. Ибо как Господь, с Иоанном и Петром возшедши на гору, преобразил ризы Свои и соделал их молниевидными, так бывало и с оным одеянием, и облаченный в оное человек удивлялся и изумевал. В иное же время свет сей, явясь в сердце, отверзал внутреннейший, глубочайший и сокровенный свет; почему человек, всецело поглощенный оною сладостью и оным созерцанием, не владел уже собою, но был для мира сего как бы буим и варваром по причине преизобилующей любви и сладости и по причине сокровенных тайн; так что человек, получив в это время свободу, достигает совершенной меры, бывает чистым и свободным от греха. Но после сего благодать умалялась и нисходило покрывало сопротивной силы...» 304. Святой Макарий тут же определяет причины этого умаления, объясняя, что изменения вызваны тем, что христианин в миру не может быть полностью чужд греха и что если иногда ему и удается достигать совершенства, то удержаться в нем он не в состоянии. Верить в противоположное означало бы заблуждаться: «...если и упокоевается кто в благодати, доходит до тайн и до откровений, до ощущения великой благодатной сладости, то и грех сопребывает еще внутри его. Такие люди, по преизобилию в них благодати и света, почитают себя свободными и совершенными; но погрешают в сем, по неопытности вводимые в обман тем самым, что действует в них благодать. А я доныне не видал ни одного свободного человека, и поеликув иные времена сам отчасти доходил до оной меры, то доведался и знаю, почему нет совершенного человека» 305.
Блаженный Диадох Фотикийскийв свою очередь подчеркивает положительное влияние этих чередований в рамках божественного научения, так как каждый из этих двух моментов (ощутимый опыт благодати и ее утрата) позволяет через соответствующее поведение (смирение – с одной стороны, радость и надежду – с другой) избежать опасностей (гордыни и отчаяния), связанных с другим: «Благодать вначале обыкновенно озаряет душу своим светом с сильным того ощущением; а когда успехи в духовно христианской жизни подвинутся вперед, тогда она большею частию неведомо для боголюбивой души свои совершает в ней таинства: чтобы после того (по умиротворении души) ввести нас в радовании на стезю божественных созерцаний, как будто бы мы только что призываемы были из неведения в ведение, посреди же подвигов (об умирении души от страстей) блюсти наш помысл не тщеславным. Подобает нам в меру быть ввергаемыми в печаль, как бы мы были оставлены благодатию, да паче смиримся и научимся покорствовать Господним о нас определениям, а потом благовременно входить в радость, благою окрыляясь надеждою: ибо как безмерная печаль вводит душу в нечаяние и безнадежие, так и чрезмерная радость приводит ее к самомнению и кичению. Говорю – о младенчествующих еще жизнию и разумом. Между просвещением благодати и оставлением средина – надежда. Ибо говорится: терпя потерпех Господа и внят ми ( Пс. 39:2), – и еще: по множеству болезней моих... утешения Твоя возвеселиша душу мою (ср.: Пс. 93:19)» 306.
Многие отцы рассматривают богооставленность как намеренную покинутость Богом души, которая согрешила – в частности, тщеславием и гордостью. Теряя благодать (часто понимаемую как божественная помощь и защита), душа оказывается наказанной, предоставленной злу и бесам. Богооставленность означает не только то, что Бог отдалился от человека, но и то, что теперь человек предоставлен произволу сил зла и проистекающим из этого негативным последствиям. Именно по этой причине, как правило, богооставленность вызывает в человеке пессимизм, он видит все в мрачном свете. Богооставленность может привести к положительному результату, только если она вписывается в рамки Божественного домостроительства и промысла и приобретает для кающейся и исправляющейся души врачующую и наставляющую функцию, из-за того, что опыт зла и его последствия приводят душу к покаянию и смирению, помогая ей восстановиться в своем прежнем добродетельном состоянии, а затем и укрепиться в нем.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



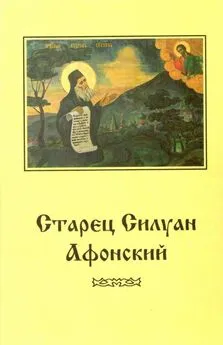
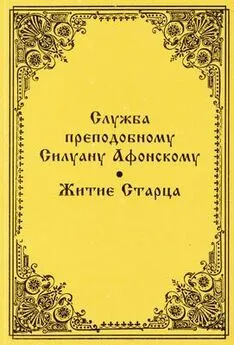

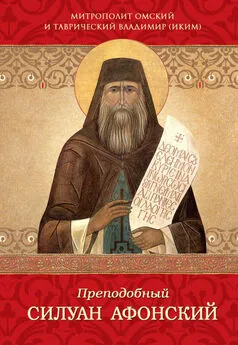
![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)