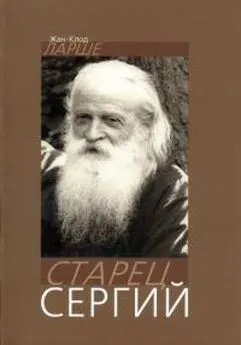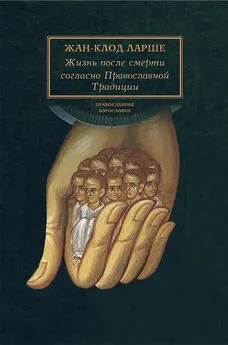Жан-Клод Ларше - Преподобный Силуан Афонский
- Название:Преподобный Силуан Афонский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан-Клод Ларше - Преподобный Силуан Афонский краткое содержание
Преподобный Силуан Афонский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Многие из этих соображений встречаются в «Умозрителе» Евагрия: «Помни о пяти причинах богооставленности, чтобы смочь оправиться от малодушия, которое является следствием печали. Прежде всего, богооставленность проявляет сокрытую добродетель. Когда же об этой добродетели не радеют, то она через наказание восстанавливается и становится причиной спасения других 307. А когда добродетель становится слишком выдающейся, то богооставленность научает смирению тех, кто ею обладает 308. Наконец, опытно испытавший зло [начинает] ненавидеть его, а поэтому опыт есть отпрыск богооставленности, сама же богооставленность есть дочь бесстрастия» 309. В первую очередь Евагрий отмечает, что человек может быть подвергнут испытанию богооставленности Богом, Который хочет дать ему возможность проявить – терпеливо ожидая освобождения от этого состояния – различные добродетели, такие как вера, надежда, терпение, смирение. Однако порой богооставленность дается человеку как кара за пренебрежение добродетелью – в частности, смирением, – и за впадение в грех. Тот, кто умеет извлечь пользу из этого наказания, восстанавливает, в частности через покаяние, свою прежнюю добродетель. И тогда он становится примером для других, как, впрочем, и тот, кому богооставленность была послана как возможность проявить и развить свои добродетели. Тем не менее и для добродетельного и бесстрастного богооставленность продолжает представлять собой опасность: он может впасть в нее (или впасть в нее повторно) просто вследствие дурного помысла – в частности гордости. Тот, кто хоть раз пережил беду, в которую погружает человека богооставленность, не пожелает подвергнуться ей вновь и поэтому будет хранить трезвение. Как видим, Евагрий в первую очередь показывает нам самый скорбный аспект богооставленности – испытание, исправление и предупреждение.
Воспроизводя почти буквально тональность этого текста, преподобный Максим Исповедниквпоследствии также будет уделять внимание прежде всего этому аспекту и говорить уже не о богооставленности ( ὲγκατάληψις), а о борьбе с бесами 310.
В другом тексте, сохраняя термин «богооставленность», Максим Исповедниквсе-таки более оптимистичен: «Есть четыре вида богооставленности. Первый – домостроительная богооставленность, как это было с Господом, дабы через кажущуюся богооставленность были спасены покинутые. Второй – богооставленность ради испытания, как это случилось с Иовом и Иосифом, дабы явить одного столпом мужества, а другого – столпом целомудрия. Третий – богооставленность ради отеческого назидания, как это произошло с апостолом, дабы, смиряясь, он сохранил бы изобилие благодати. Четвертый – богооставленность в силу отпадения [от Бога], как это произошло с иудеями, дабы они, наказываемые, могли бы обратиться к покаянию. Все эти виды [богооставленности] спасительны и преисполнены Божией Благости и Премудрости» 311. Богооставленность, если она, как в первом случае, представлена источником спасения (упомянутым лишь в общих чертах), оказывается прежде всего возможностью развить и укрепить такие добродетели, как упорство, целомудрие, смирение и покаяние.
Мысль, присутствующая в предыдущих текстах, о том, что богооставленность – это наказание/исправление, при котором человек остается покинутым сохраняющей благодатью Божьей вследствие грехов – в частности, помыслов гордыни, – многократно повторяется преподобным Исааком Сирином 312. Но в первую очередь мы ее встречаем в 54-й беседе, приписываемой преподобному Макарию Египетскому, и в 47-й главе Палладиева «Лавсаика» (она воспроизводит текст Макария). «Те же, которые лишь кажутся домогающимися добродетели, а на самом деле стремящиеся к пагубной цели, болеющие недугом человекоугодия и одержимые помыслом своеволия, – они-то и впадают в прегрешения. И Бог оставляет этих людей для их же пользы, дабы они через такую богооставленность почувствовали бы происшедшую разницу и исправили бы свое намерение и поведение» 313. «Итак, всякий грех – согрешает ли кто языком, чувством, делом или всем телом [своим] – влечет за собой богооставленность, соразмерную гордыне [согрешающих], хотя Бог [часто] и щадит их» 314. Отдаление Бога означает утрату благодати, вследствие чего люди, находящиеся в таком положении, оказываются отданными во власть сил зла: «...Бог оставляет их, и они становятся добычей постыдных устремлений или позорных страстей»; «когда Бог отходит, человек делается сражен врагом и впадает в распутство» 315. И вот тут открывается воспитующее влияние богоставленности: «Ее цель – чтобы распутство, которое низводит [человека] до зверей или собак, изгнало порок, который низводит его до бесов, – то есть гордость» 316; действительно, «благодаря смирению и стыду, который [его] охватывает, он мало-помалу избавляется от тщеславия» 317. Эти соображения призваны объяснить, почему подвижники падают или заблуждаются после того, как жили во благе 318; однако автор в заключение без колебаний отсылает к той богооставленности, которую переживали святые: «...один из [видов] богооставленности случается, чтобы явлена была скрытая добродетель 319, как это произошло с Иовом... Второй вид богооставленности случается ради предотвращения гордыни, как это произошло с [апостолом] Павлом. Ведь он говорит: Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился ( 2Кор. 12:7)" 320. В этих двух случаях, как видим, богооставленность весьма четко понимается как скорбь и беда, перенесенная человеком из-за того, что он лишился божественной защиты, но при этом – с позитивным оттенком восстановления и/или укрепления в добродетелях.
В опыте и свидетельстве святого Силуана мы находим множество общих точек с размышлениями святого Макария. Старец, как мы видели, особо настаивает на предопределяющей роли помыслов гордости в утрате благодати. Он упоминает, хотя чуть робко, и о научающей роли богооставленности в связи с намерениями промысла Божия. Однако он почти не рассматривает богооставленность как активное действие Бога, удаляющегося от человека, и никогда не относится к тяжелым для души последствиям утраты благодати как к Божьему наказанию. Пустота, бесплодность, тоска, которые ощущает душа, хотя и причиняют ему страдания, тем не менее остаются стимулами к тому, чтобы вновь обрести Бога; они – как своего рода шипы, колющие, чтобы разжечь желание и любовь ко Христу, к Которому он начиная с первого опыта остается нерасторжимо привязанным.
Один из текстов Евагрия особо интересен тем, что описывает мучительное зрелище бесов, которое многократно представало и перед святым Силуаном, и зрелище ада, которое настигало его как следствие определенных помыслов гордыни: «Не отдавай сердца своего гордыне и не говори пред лицем Божиим: силен я, – дабы Господь не оставил души твоей и лукавые бесы не смирили бы ее. Ибо тогда враги через воздух наведут ужас на тебя, явив тебе страшные ночи» 321. Святой Диадох Фотикийскийтоже говорит о подобном опыте; он вспоминает о карающем значении, которое этот опыт порой может иметь для тех, кто отвратился от Бога, но настаивает на поучающей цели, которую тот же опыт чаще всего преследует, замечая, что благодать скорее прячется, нежели исчезает, чтобы заставить человека в смирении испытать потребность в помощи Божьей: «Ибо попущение обучительное никак не лишает душу божественного света, бывает же при сем только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечью бесовской подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощи от Бога, испытывая в себе злое действие врага. Так мать дитя свое, бесчинствующее по нехотению подчинятся уставам млекопитания, на краткое время спускает из объятий своих, чтоб оно, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах, в матерние опять потянулось возвратиться в объятия. По отвращению же Божию бывающее попущение душу, не хотящую иметь Бога в себе, предает бесам, как бы связанною» 322. Опыт ада для святого Силуана был самым болезненным и самым глубоким проявлением богооставленности. Однако это был опыт исключительный 323, и упоминание о нем в его творениях занимает, несмотря на всю значимость, малое место по сравнению с другими аспектами богооставленности, упомянутыми выше, где ад и бесы никогда не фигурируют.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



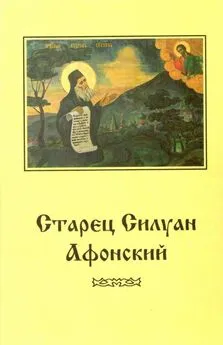
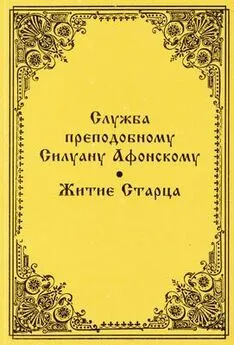

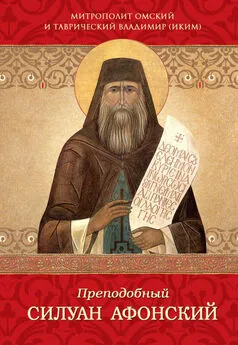
![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)