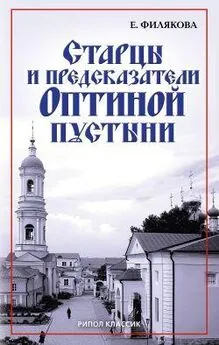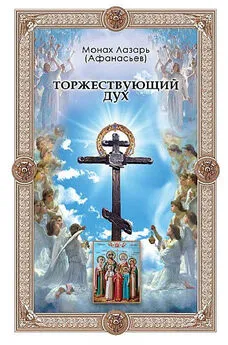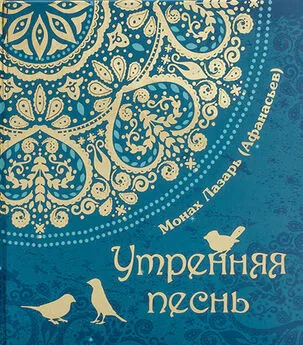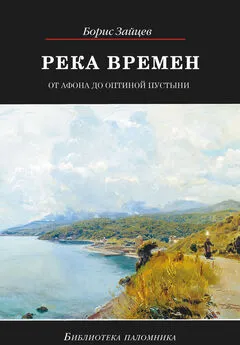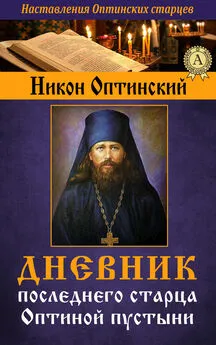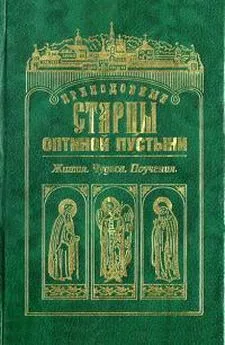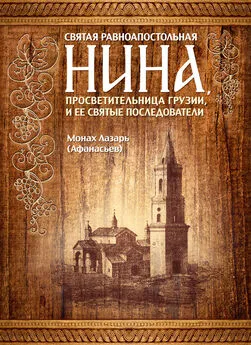Монах Лазарь (Афанасьев) - Оптинские были. Очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни
- Название:Оптинские были. Очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Благозвонница»05f8fb0f-8952-102d-9ab1-2309c0a91052
- Год:2008
- Город:M.
- ISBN:978-5-91362-057-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Монах Лазарь (Афанасьев) - Оптинские были. Очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни краткое содержание
Эти очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни – новое, переработанное автором издание его известной книги «Оптинские были».
Монах Лазарь (Афанасьев) – оптинский монах и сам в прошлом насельник обители. Может быть, потому удалось ему так проникновенно, с чувством благоговейной любви и благодарности изобразить эту жемчужину русского духа и культуры. Многие рассказы и очерки почерпнуты из никогда не публиковавшейся скитской Летописи. С особым душевным трепетом знакомимся мы с прославленными оптинскими старцами и подвижниками, их высокой молитвенной жизнью.
Повествование охватывает период существования Оптиной Пустыни от возродившего ее в конце ХVIII века игумена Амвросия до убиенных в 1993 году оптинских новомучеников иеромонаха Василия и иноков Ферапонта и Трофима.
Рассказывается здесь и о тех замечательных людях, которые были так близки оптинскому духу – И.В. и Н.П.Киреевских, К.Н.Леонтьеве, Великом Князе К.Р.
Оптинские были. Очерки и рассказы из истории Введенской Оптиной Пустыни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Братия относилась к о. Мелхиседеку с любовью, – он во многом был им примером. За год или за два до кончины он составил духовное завещание, в котором назвал себя «многогрешным архимандритом схимником Мелхиседеком» и просил «у всех и каждого христианского прощения». «Завещаваю, – писал он, – тело мое положить в простой гроб, не обитый и не окрашенный». И далее: «По смерти моей сродникам моим в наследие имения моего отнюдь не вступаться и не входить ни во что, и не требовать от монастыря ничего, потому что оное большею частью состоит в книгах, которые завещаваю отдать в церковную библиотеку здешней Оптиной Пустыни. Прочие же вещи, по прилагаемому при сем реэстру, отдаю в полное распоряжение отца моего духовного игумена Моисея. Денег у меня налицо по сие время не имеется… Наконец, отца моего духовного игумена Моисея и братию св. обители сея, в коей я с 1823 года в преклонных уже моих летах тихо и мирно успокоиваюсь, за любовь и приязнь их ко мне наиусерднейше благодарю. Да воздаст им Господь по безмерным Cвоим щедротам и в нынешней жизни, и в будущем веке. Прошу их и молю, да зряще мя безгласна и бездыханна, помолятся к Премилосердому Богу о успокоении души моей!»
О. Мелхиседек за семнадцать лет жизни в Оптиной Пустыни так сжился с ней, что считал себя истинным оптинцем, а монастырь этот той вожделенной пристанью, куда стремился среди множества хлопот своих прежних настоятельских дел.
ЗА ДВЕРЬЮ ГРОБА
(старинная Оптинская быль)
Щигры – городок Курской губернии, расположенный между двумя тихими речками – Щигра и Лесная Плата. Еще лет сорок тому назад (считая от 1813 года, когда родился герой нашей истории) тут было село Троицкое, которое в 1779 году по екатерининскому плану административного упорядочения Российской Империи стало уездным городом со всеми необходимыми службами. Здесь это было сделать нетрудно, так как население тут всегда было воинское, когда-то – стрелецкие семьи, мужчины которых по первому звуку военной трубы оставляли плуг в поле, топор вонзенным в бревно и с оружием выходили на площадь под знамена собирающегося в поход полка. То есть это были люди закона и порядка, послушания и самопожертвования ради Отчизны.
Потомственные дворяне Труновы издавна были стрелецкими начальниками, но со временем, когда армия после петровских преобразований приняла совсем другой вид, они, по-прежнему живя у речки Щигры, сделались простыми провинциальными помещиками, имеющими достаток очень скромный, хотя, по желанию родителей, кто-нибудь из них и вступал в военную службу в Москве или Петербурге. Губернский город Курск находился отсюда в шестидесяти верстах. В самих Щиграх в Казенном присутствии обращались какие-то казенные бумаги, в суде не велось почти никаких дел, да и чиновников было немного. На площади утром пастух наигрывал на рожке, собирая стадо, которое затем гнал в луга, к реке. Поднятая стадом пыль оседала, и снова становилось тихо. Возле деревянных заборов копались в траве куры.
Храм Пресвятой Троицы, некогда построенный на небольшом возвышении, виден был со всех улиц. Утренний благовест преображал всю округу – дивной красоты звук большого колокола подобно кругам на воде расходился во все стороны, как бы освежая воздух и пробуждая все дремлющее… Не только люди, но и земные произрастения просыпались. А люди-то… Люди в Щиграх были верные православные христиане – и барин, и чиновник, и мещанин городской, и мужик. Утром, при звуках благовеста, целыми семьями шли они в храм, – и множество детей всех возрастов было среди них.
Жители городка посещали все службы, причт с трудом поспевал на исполнение множества треб, но и ежедневная, почти не умолкаемая молитва звучала в домах, утром и перед сном, в связи с трапезой, перед каждым делом… Вот и в семье Труновых, где было пятеро детей, из них два отрока – Павел и Симеон – молитва не умолкала, и едва ли не более взрослой – молитва детская, самая к Богу доходчивая. Моленная комнатка Труновых была вроде часовни, вся в иконах, на столике в углу кадильница, свечи, на аналое Псалтирь… Отрокам – одному шесть, другому семь лет. У них воспитателем был старый дворовый, «дядька», грамотей и молитвенник. Он ладил с отроками превосходно, тем более, что они едва ли не с пеленок полюбили тихую молитвенную жизнь.
Кроме ежедневных своих детских правил, дети должны были два, а то и три раза в день прочитать по одной или иногда по две кафизмы. После прочтения их им позволялось погулять на воздухе. Они и проводили это время у речки, иногда ловили рыбу удочками, но больше любовались природой и по-своему, по-отрочески, восхищались тем, как Господь все предивно создал… Во все времена года мир, лежавший вокруг них, виделся им сказочно красивым. Не только летом, но и во время золотого осеннего листопада, и зимой, когда над белым пухом снегов, покрывавших луга, поля, лес и речку, скованную льдом, таял в бледной от мороза небесной лазури такой же пух облаков… Это были удивительные дети: Господь рано коснулся их сердца, и они жили как бы в счастливом ожидании чего-то невыразимо прекрасного, родного, вечного.
Потом они учились в городской школе. Учился там, классом или двумя старше, их двоюродный брат Ермоген, с которым они скоро сблизились, так как он по своему характеру и любви к тишине и молитве оказался им родствен. Отроки учились прилежно и без особенного труда переходили из класса в класс. Павел же, как вспоминали знавшие его люди, был так удивительно тих и кроток, что постоянством в этих своих качествах благотворно действовал на учеников, склонных к лени и шалостям: они исправлялись. Вот ведь как бывало в старину! Выучив уроки, Павел читал усердно духовные книги. Очень любил он тогда сочинения святителя Тихона, чудотворца Задонского.
Когда приблизилось время окончания учения в школе, то Феодот Саввич, отец Павла, начал думать о дальнейшей его жизни. Сначала думал направить его в военную службу, но потом, не желая такой резкой перемены и в своей жизни, и в жизни сына (не хотелось отпускать далеко от себя), поместил его на должность протоколиста в Щигровский уездный суд. Туда же помещен был и Симеон. А там уже более года как находился на должности такого же протоколиста двоюродный их брат Ермоген.
Это были дивные юноши. Девственники, не имевшие никаких нечистых помыслов. Все непотребное, по Промыслу Божьему, их миновало. Ни одной развращающей ум и сердце книги не попало им в руки. Никакой порочный человек не увлек их воображения… Не чудо ли это? Они жили в Боге. Видя некоторые несообразные поступки молодых сослуживцев, Павел молился о них со слезами пред образом Богоматери.
Но начальник его радовал его сердце своим непоказным благочестием, а позднее стал монахом (он-то и рассказывал потом о своем боголюбивом подчиненном).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: