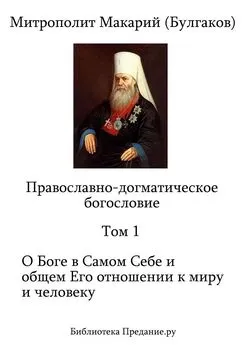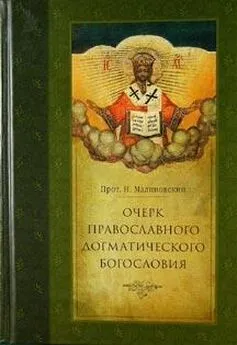Макарий Булгаков - Православно-догматическое Богословие. Том I
- Название:Православно-догматическое Богословие. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Макарий Булгаков - Православно-догматическое Богословие. Том I краткое содержание
Православно-догматическое Богословие.
Макария,
Митрополита Московского и Коломенского.
Том 1.
Издание исправленное и дополненное, 2005 год.
©Свято-Троицкая Православная Миссия.
Под общей редакцией Его преосвященства Александра,
епископа Буэнос-Айресского и Южно-Американского.
(По изданию четвертому, Санкт-Петербург, 1883 год.)
Православно-догматическое Богословие. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В частности, при раскрытии каждого догмата порознь, православная Догматика должна:
1) Прежде всего привести точное определение догмата из кратких или обширнейших исповеданий Церкви, ибо первая задача православного догматического Богословия — показать, как учит о догматах православная Церковь. Всего проще для этой цели приводить церковное учение о нескольких догматах вместе в начале каждого отдела или главы, в которых догматы те имеют быть рассматриваемы; потом приведенное учение разлагать на части, сообразно с требованием системы, и, по разложении, каждую часть рассматривать отдельно, одну за другой. Иногда только может понадобиться в таком случае приводить еще частнейшее определение какого либо догмата, при подробном его раскрытии.
2) Вслед за церковным определением догмата привести самые основания его из Священного Писания и Священного Предания. Ибо Церковь преподает нам не свое учение и не от себя; ее догматы суть богооткровенные истины, которые, все до одной, она заимствует из Слова Божия. Главнейшие правила для православной Догматики в этом деле следующие:
1) Касательно Священного Писания: а) должно приводить места, для подтверждения догматов, не только из Нового Завета, но, где окажется нужным, и из Ветхого: ибо оба они составляют собственно одно Божественное Откровение, и если закон обрядовый и закон гражданский, бывшие в Ветхом Завете, прошли, когда явился Новый, — тем не менее закон веры и нравственности ветхозаветный остается и теперь во всей своей силе, будучи только полнее объяснен и раскрыт в новозаветном Откровении; б) впрочем, когда будут приводиться места из ветхозаветного Писания, надобно, чтобы они заимствовались преимущественно из книг канонических: ибо свидетельства неканонических книг, для подкрепления догматов, не могут иметь такой важности; в) нет нужды приводить всех мест Писания, какие только могут относиться к известному догмату, а довольно привести одни места яснейшие, так называемые классические ; г) извлекать места из Писания и истолковывать , для подкрепления догматов, должно вообще не иначе, как по правилам здравой, православной Герменевтики.
Касательно Священного Предания: а) приводить свидетельства из предания, для подтверждения или пояснения догматов, должно уже после того, как будут приведены свидетельства из Писания, источника христианской Религии первого и главнейшего; б) необходимо приводить свидетельства из предания во всех тех случаях, когда свидетельства Писания или не довольно ясны и полны, или подвергаются разным толкованиям и спорам; в) но нет необходимости приводить места из предания там, где места из Писания совершенно ясны и определенны, так что не подвергаются никаким сомнениям и перетолкованиям ни со стороны православных. ни даже со стороны не православных, например, в учении о некоторых свойствах Божиих: в этом случае места из предания, преимущественно сохраняющегося в сочинениях святых Отцов Церкви, могут разве только знакомить нас с тем, как раскрывали известные догматы древние знаменитые учители веры; г) вообще же места, приводимые из предания, должны иметь признаки своего истинно-апостольского происхождения. [44]
Выполнив эти две существенные свои обязанности, при раскрытии каждого догмата, т.е. показав, как учит о нем православная Церковь, и доказав, на основании Священного Писания и Священного Предания, почему она так учит, догматическое Богословие может:
3) Допустить и соображения здравого разума человеческого касательно рассматриваемого догмата (Рим. 12:2; 1 Фес. 5:20). Если этот догмат будет истина, доступная уму, в таком случае ум может найти для нее новые пояснения и даже подкрепления в кругу собственных познаний. Если же догмат будет таинственный и непостижимый, тогда ум может, по крайней мере, показать, как тайна эта, при всей непостижимости своей, светоносна для верующего, — как тесно соединена она с другими истинами христианского вероучения, постижимыми для разума, — как мысль, ею выражаемая, достойна Бога, сообразна с Его совершенствами и вместе полезна для нравственности человека, — как несправедливо отвергать эту тайну потому только, что она непостижима и т.д. Наконец известно, что и догматы постижимые для разума, и особенно догматы непостижимые, всегда подвергались и подвергаются возражениям со стороны вольнодумцев, которые, большей частью, заимствуются из разума, и потому не иначе могут быть и опровергаемы, как при пособии разума. Правда, все такого рода соображения естественного смысла человеческого в пояснение ли, или в подкрепление и защищение догматов, не могут иметь большой цены в области христианского Богословия, положительного и сверхъестественного, но они могут весьма облегчать уразумение догматов христианских верующими, приближая их к понятиям возвышенных истин Откровения, и в иных случаях, по крайней мере, не излишни (при раскрытии догматов непостижимых), в других — полезны (при раскрытии догматов постижимых), в третьих — даже необходимы (при решении возражений). Посему-то святые Отцы и учители древней Церкви не только не отвергали законного употребления разума и знания в области веры, но считали это даже необходимым, [45]и когда раскрывали в подробности христианские догматы, особенно против не правомыслящих, то отнюдь не ограничивались при этом одними свидетельствами Священного Писания и Священного Предания, а имели обычай обращаться и к здравому смыслу человеческому, призывали на помощь диалектику, философию, естествознание и другие науки, старались находить в них, каждый по мере своего личного разумения, доказательства или пояснения на откровенные истины. [46]И так поступали знаменитые учители не только в тех случаях, когда дело касалось догматов постижимых, когда, например, доказывали единство Божие против многобожников, или бытие Промысла против стоиков и пантеистов, или объясняли происхождение зла в мире из злоупотребления свободы человеческой против гностиков и маркионитов, [47]но и тогда, когда, опровергая заблуждения еретиков, рассуждали о величайших таинствах христианской веры: о троичности Лиц в Боге, о предвечном рождении Бога Слова, Его воплощении, крестной смерти и т.п. Творения вселенских великих учителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и особенно творения святого Афанасия Великого и блаженного Августина наполнены такого рода умственными соображениями о всех этих непостижимых истинах. [48]А святой Иоанн Дамаскин, первый богослов-систематик, оставил нам в своем “ Точном изложении православной веры ” еще ближайший образец того, как можно в области догматического Богословия соединять вместе с доказательствами и пояснениями истин из Откровения, будут ли они постижимы или непостижимы, доказательства и пояснения тех же истин из разума. [49]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: