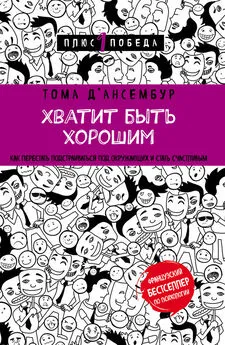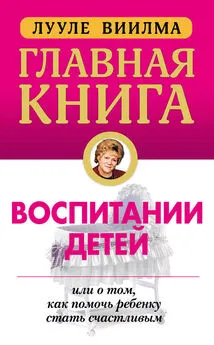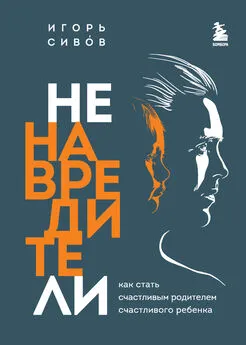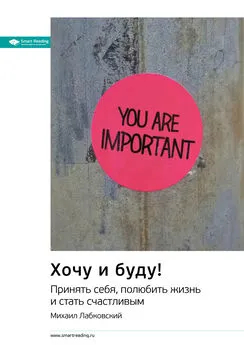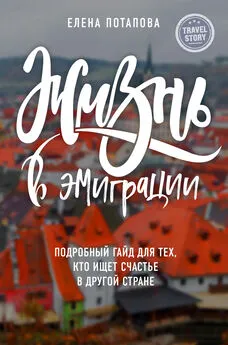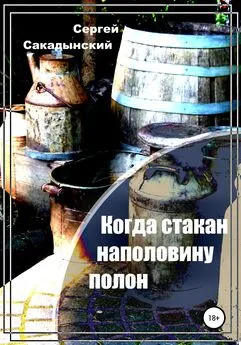Джонатан Хайдт - Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым
- Название:Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-119939-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джонатан Хайдт - Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым краткое содержание
Джонатан Хайдт изучил трактаты древних мыслителей и философские труды за последние 500 лет. Он смог вывести 10 Великих Идей Счастья, которые возникли на разных континентах и в разное время независимо друг от друга. Связь между здоровьем, работоспособностью, долголетием и мысленным настроем действительно существует! Но как перейти «на светлую сторону» и начать мыслить позитивно? Какой образ мышления стимулирует оптимизм? Как избавиться от хронической склонности к пессимизму и депрессии, научиться бороться с ложными тревогами и мнимыми опасностями? Вы найдете ответы в этой книге.
«Оригинально, серьезно, практически применимо, делает повседневную жизнь проще и лучше», – вот что говорят о книге многочисленные поклонники.
Стакан всегда наполовину полон! 10 великих идей о том, как стать счастливым - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Зачем добрый Боженька создал комаров
Когда я изучал философию в колледже и занялся исследованиями морали, отец сказал: «А как же религия? Какая может быть мораль без Бога?» Я был юным атеистом с обостренным нравственным чувством (значительно превышающим уровень самодовольного ханжи), и отцовские слова меня обидели. Я думал, что мораль – это регулятор отношений между людьми, стремление поступать правильно, даже когда это противоречит твоим интересам. А религия, думал я, – это набор правил, не имеющих смысла, и историй, которые никогда не могли произойти, и люди сначала сочинили эти истории и записали, а потом заявили, будто их даровала свыше сверхъестественная сущность.
Теперь я считаю, что отец был прав – мораль действительно коренится в религии – но по другой причине. Мораль и религия в той или иной форме есть во всех человеческих культурах (Brown, 1991), и та и другая практически всегда переплетены с ценностями, самосознанием и повседневной жизнью культуры. Всякий, кто хочет получить полное межуровневое представление о природе человека и о том, как люди ищут цель и смысл в своей жизни, должен следить, чтобы его данные были когерентны всему, что известно о морали и религии.
С эволюционной точки зрения мораль – большая проблема. Если эволюция – это выживание наиболее приспособленных, зачем люди столько помогают друг другу? Зачем они жертвуют на благотворительность, рискуют своей жизнью ради спасения незнакомцев и добровольно идут в бой на войне? Дарвин считал, что ответ прост – альтруизм развивается в ходе эволюции, поскольку полезен группе:
Племя, включающее многих членов, которые, при обладании в высокой степени духом патриотизма, верностью, послушанием, мужеством и симпатией, всегда были готовы помогать друг другу и жертвовать жизнью ради общего блага, – такое племя будет одерживать верх над многими другими; а это и есть естественный подбор (Дарвин, 2009).
Дарвин предполагал, что группы, как и отдельные особи, конкурируют друг с другом, а следовательно, психологические черты, которые обеспечивают успех группе в целом – патриотизм, мужество и альтруизм по отношению к товарищам по группе, – должны распространяться, как и любые другие черты. Но как только теоретики эволюции подвергли его предположения строгой научной проверке и построили компьютерные модели взаимодействий особей, прибегающих к разным стратегиям (например, чистая самоотверженность в противоположность «ты – мне, я – тебе»), они быстро поняли, к каким тяжелым последствиям приводит «эффект безбилетника». В группах, где все приносят жертвы ради общего блага, один человек, который таких жертв не приносит, то есть, в сущности, норовит прокатиться зайцем на спинах альтруистов, имеет большое преимущество. Холодная логика компьютерных моделей показывает, что тот, кто в одном поколении накапливает больше всех ресурсов, в следующем поколении даст больше потомства, поэтому эгоизм – это адаптивно, а альтруизм – нет. Единственное решение проблемы «безбилетников» – сделать так, чтобы альтруизм был делом стоящим, и в науке об эволюции было сделано два фундаментальных открытия подряд, которые показали, как это делается. В главе 3 я рассказал об альтруизме по отношению к родственникам (помогай тем, у кого с тобой общие гены) и взаимном альтруизме (помогай тем, кто в будущем ответит тем же) как о двух шагах по пути к ультрасоциальности. Когда эти два решения задачи об эффекте безбилетника были опубликованы (в 1966 и 1971 году соответственно, Williams, 1966; Trivers, 1971), большинство теоретиков эволюции решили, что вопрос об альтруизме решен, и, в сущности, объявили, что групповой отбор теперь вне закона. Альтруизм полностью объясняется как особая разновидность эгоизма, и все последователи Дарвина, считавшие, что эволюция действует «на благо группы», а не на благо отдельной особи (или, еще лучше, на благо гена (Докинз, 2013)), угодили в опалу как мягкотелые романтики.
Однако запрет группового отбора привел к одному осложнению. Есть существа, которые и в самом деле живут группами, конкурируют и умирают как группа, например, другие ультрасоциальные животные (пчелы, осы, муравьи, термиты и голые землекопы), и к ним гипотеза группового отбора применима в полной мере. Улей или муравейник – это и в самом деле единый организм, где каждое насекомое – клетка в огромном теле (Wilson, 1990). Муравьи, наподобие стволовых клеток, принимают разную физическую форму, чтобы выполнять конкретные функции, необходимые муравейнику: мелкие муравьи ухаживают за личинками, крупные с особыми наростами добывают пищу или отбивают атаки врага. И, подобно клеткам иммунной системы, муравьи готовы жертвовать собой ради защиты колонии: у одного вида малайзийских муравьев (Camponotus saundersi, см. Wilson, 1990) члены касты солдат накапливают под экзоскелетами липкое вещество. В разгар битвы они взрываются, превращаются в террористов-камикадзе, и этот клей парализует противника. У пчел и муравьев царица – не просто мозг, она еще и яичник, и весь улей или муравейник можно рассматривать как организм, в результате естественного отбора сформировавшийся так, чтобы защищать яичник и помогать ему создавать больше ульев и муравейников. Поскольку все в колонии на самом деле в одной лодке, групповой отбор не просто допустим как гипотеза, он обязателен.
Может ли это относиться и к людям? Разве люди не конкурируют, не живут и не умирают как группа? Племена и этнические группы и в самом деле растут и распространяются либо чахнут и вымирают, и иногда это происходит в результате геноцида. Более того, в человеческом обществе зачастую складывается экстраординарное разделение труда, поэтому сравнение с муравьями и пчелами прямо-таки напрашивается. Но поскольку каждая человеческая особь способна размножаться, эволюционные дивиденды за инвестиции в собственное благополучие и собственное потомство практически всегда превосходят дивиденды за вклад в благополучие группы, поэтому в долгосрочной перспективе эгоистичные черты распространяются за счет альтруистичных. Даже во время войны или геноцида, когда интересы группы превалируют, именно трус убегает и прячется, а не гибнет вместе с товарищами на передовой, и именно трус, скорее всего, передаст свои гены следующему поколению. Поэтому теоретики эволюции с начала семидесятых единодушно полагают, что групповой отбор попросту не играет роли в формировании человеческой природы.
Но постойте. Тут ведь не или все, или ничего. Даже если главный процесс в человеческой эволюции – конкуренция отдельных особей в группе, групповой отбор (конкуренция между группами) тоже мог внести свой вклад. Биолог-эволюционист Дэвид Слоан Уилсон недавно заявил, что отказ от теорий группового отбора на основании упрощенческих компьютерных моделей, созданных в шестидесятые, стал одной из величайших ошибок в истории современной биологии (Wilson, 2002). Однако следует отметить, что теория группового отбора по-прежнему вызывает споры, и на сегодня ее придерживается лишь меньшинство биологов-эволюционистов. Если построить более реалистичные модели, больше похожие на настоящих людей, групповой отбор прямо-таки бросается в глаза. Уилсон указывает, что люди эволюционировали одновременно на двух уровнях – генетическом и культурном. Простые модели шестидесятых хорошо работали на существах, лишенных культуры: поведенческие черты должны были быть закодированы исключительно в генах, которые передавались только по линиям родства. Но все, что делает человек, определяется не только генами, но и культурой, и культуры тоже эволюционируют. Поскольку элементам культуры свойственны мутации (люди постоянно изобретают что-то новое) и отбор (другие люди могут принять, а могут и не принять эти новшества), культурные черты можно анализировать в рамках дарвинизма (см. Aunger, 2000; Gladwell, 2000; Richerson and Boyd, 2005) точно так же, как физические черты (клювы птиц, шеи жирафов).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: