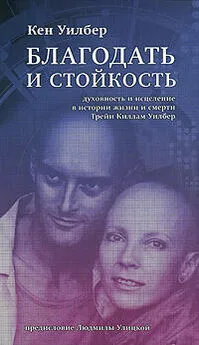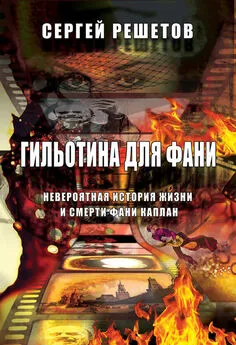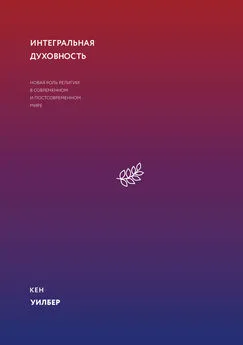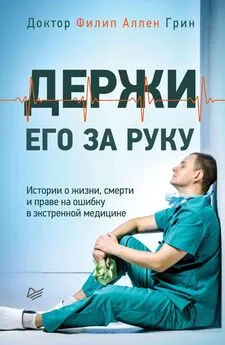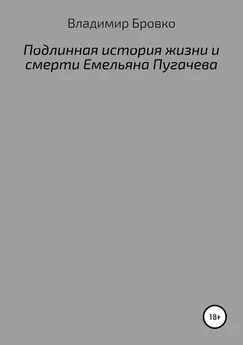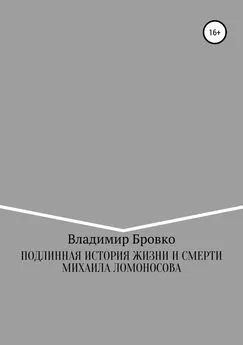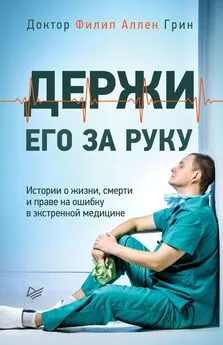Кен Уилбер - Благодать и стойкость: Духовность и исцеление в истории жизни и смерти Трейи Кимам Уилбер
- Название:Благодать и стойкость: Духовность и исцеление в истории жизни и смерти Трейи Кимам Уилбер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Открытый Мир»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9743-0127-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кен Уилбер - Благодать и стойкость: Духовность и исцеление в истории жизни и смерти Трейи Кимам Уилбер краткое содержание
Кен Уилбер — один из наиболее известных передовых философов современности, яркий представитель трансперсональной психологии, признанный в академических кругах разработчик интегральной теории всего, объединившей мистический опыт и науку, бизнес и искусство, философию и политику. Его книги переведены более чем на двадцать языков мира. В настоящее время он живет в Боулдере, штат Колорадо, США.
Благодать и стойкость: Духовность и исцеление в истории жизни и смерти Трейи Кимам Уилбер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На мой взгляд, такой подход вызывает определенные сомнения. Разумеется, это правда, что сознание, даже современного человека, может спонтанно порождать мифологические образы, по сути сходные с образами мировых религий. Как я уже говорил, доформальная стадия развития сознания, особенно дооперациональное и конкретно-операциональное мышление по своей природе склонны порождать мифы. Поскольку все современные люди в детстве проходят эти стадии развития, совершенно естественно, что все они могут непроизвольно обращаться к мифопорождающим структурам, особенно в снах, когда примитивным уровням мышления легче оказаться на поверхности.
Но все это не имеет никакого отношения к мистицизму. Архетипы, по определению Юнга, — базовые мифологические образы, лишенные содержания, в то время как чистая мистика — это сознание, не основанное на образах. И между ними нет точек соприкосновения.
Далее. Сомнительно то, как Юнг использует слово «архетип», заимствованное им у таких великих мистиков, как Платон и Блаженный Августин. Ведь Юнг придает ему иное значение, чем мистики; кроме того, и само это понятие мистики всего мира толковали иначе. У мистиков — Шанкары [80], Платона, Блаженного Августина [81], Экхарта, Гараба Дордже [82]и других — архетипы — это первые, слабовыраженные образы, которые возникают, когда мир проявляется из бесформенного и внешне не явленного Духа. Архетипы — это модели, на которых основаны любые последующие формы выражения; от греческого «arche typon», то есть изначальная модель. Это слабовыраженные, трансцендентные формы, которые являются первообразами любого внешнего проявления — физического, биологического, интеллектуального или любого другого. В большинстве мистических направлений архетипы — всего лишь светящиеся структуры, сгустки света, броская иллюминация, причудливо окрашенные образы радуги, состоящие из света, звуков и вибраций, — а уже из них, если можно так выразиться, сгущается материальный мир.
У Юнга же под этим термином понимается определенная базовая мифологическая структура, являющаяся общей для всякого человеческого опыта, — например, трикстер, тень, Мудрый Старец, эго, персона, Великая Мать, анима, анимус [83]и так далее. Все они не столько трансцендентны, сколько экзистенциальны. Это всего лишь грани опыта, приобретенного в повседневной человеческой практике. Я согласен с тем, что эти мифологические образы коллективно наследуются человеческим сознанием. И я полностью согласен с Юнгом в том, что человек должен уметь обращаться с этими мифологическими архетипами.
Если, к примеру, у меня возникают психологические сложности в общении с матерью, если у меня развился так называемый «материнский комплекс», то очень важно осознать, в какой степени этот эмоциональный груз связан не конкретно с моей матерью, а с Великой Матерью — мощном образе из моего коллективного бессознательного, образе, который, по сути, является квинтэссенцией всех матерей. Дело в том, что в душе изначально «вмонтирован» образ Великой Матери, подобно тому как «вмонтированы» в нее рудиментарные формы языка и восприятия, а также различные инстинкты. И если образ Великой Матери активизирован, то, следовательно, мне приходится иметь дело не просто с моей родной матерью, а с тысячелетним человеческим опытом, связанным с матерями. Это значит, что образ Великой Матери несет с собой психологический груз и способен причинить вред, намного более серьезный, чем это смогла бы сделать моя родная мать. Осмысление образа Великой Матери, достигаемое изучением мировых мифологий, — хороший способ справиться с этой мифологической формой, вывести ее на уровень сознания и таким образом дистанцироваться от нее. В этом отношении я полностью согласен с Юнгом. Но все эти мифологические образы не имеют никакого отношения к мистицизму, чистому трансцендентальному пробуждению.
Попробую объяснить проще. На мой взгляд, главная ошибка Юнга в том, что он смешивает коллективное с трансперсональным (или мистическим). Из того, что мой ум наследует определенные коллективные образы, вовсе не следует, что эти образы являются мистическими, или трансперсональными. Мы коллективно наследуем, к примеру, по десять пальцев на ногах, но если я чувствую, что у меня десять пальцев, это ведь не является мистическим опытом! Юнговские «архетипы» не имеют никакого отношения к подлинно трансцендентальному, мистическому, трансперсональному сознанию; это скорее коллективно наследуемые образы, в которых сконцентрированы некоторые из самых основных, повседневных условий экзистенциальной человеческой ситуации — жизнь, смерть, рождение, мать, отец, тень, эго и так далее. Во всем этом нет ничего мистического. Коллективное — да, но не трансперсональное.
Существует коллективное доперсональное, коллективное персональное и коллективное трансперсональное, но Юнг не проводит даже минимально необходимых разграничений между этими элементами и тем самым искажает общую картину духовного процесса. Таково мое мнение.
Таким образом, я согласен с Юнгом в том, что очень важно научиться разбираться с образами, которые содержатся и в индивидуальном, и в коллективном мифологическом бессознательном, но ни то, ни другое не имеет отношения в настоящему мистицизму, задача которого — сначала обнаружить свет, скрытый за формой, а потом — то, что лишено формы, за этим светом.
Э.З.:Но столкновение с архетипическим содержанием в собственной душе может стать очень мощным, поразительным опытом.
К.У.:Да, потому что архетипы коллективны, их сила намного больше, чем сила отдельной личности, они обладают силой, накопленной за миллионы лет человеческой эволюции. Но коллективное — не обязательно значит трансперсональное. Сила «настоящих архетипов», трансперсональных архетипов — в том, что они являются первоначальными формами вечного Духа; сила юнгианских архетипов — в том, что они являются древнейшими формами в человеческой истории.
Как осознавал даже Юнг, необходимо отстраняться, дистанцироваться от архетипов, освобождаться от их власти. Этот процесс он называл индивидуацией. Повторю: здесь я полностью с ним согласен. От архетипов в понимании Юнга нужно дистанцироваться.
Но при этом надо приближаться к настоящим архетипам, трансперсональным архетипам, стремиться в конечном счете совместить свою идентичность с этой трансперсональной формой. Разница в этом. Один из немногих юнгианских архетипов, по природе своей трансперсональных, — это Самость, но даже эти его описания, на мой взгляд, серьезно испорчены тем, что ему не удалось как следует подчеркнуть абсолютную недуалистичность этого архетипа. Следовательно…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: