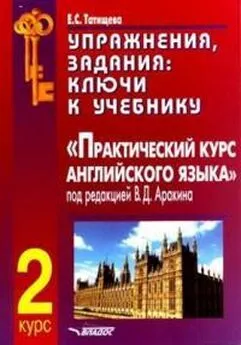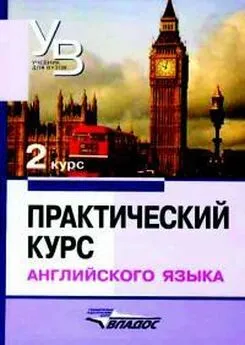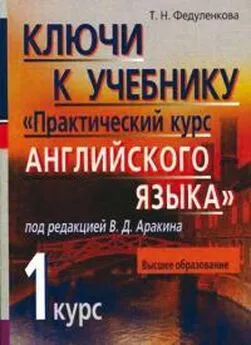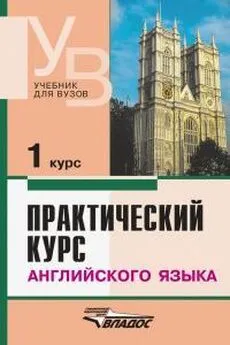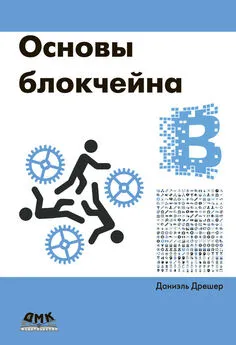Юри (Артур) Каптен (Омкаров) - Основы медитации. Вводный практический курс
- Название:Основы медитации. Вводный практический курс
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Aндреев и сыновья
- Год:1991
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юри (Артур) Каптен (Омкаров) - Основы медитации. Вводный практический курс краткое содержание
Основы медитации. Вводный практический курс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Буддийские традиции в течение долгого времепм своего существования выработали большое количество разного рода моральных норм— заповедей. В сангхе (буддийской общине) их число достигало 250 [28]. Однако оговорены были не только этические нормы: строго регламентированы были число глотков воды и приемов пищи соответственно занимаемому рангу в духовной иерархии. При этом высшие духовные лица должны были обходиться меньшим количеством еды и питья, нежели низшие (в отличие, например, от многих европейских христианских традиций). По мере развития буддизм буквально обрастал все новыми и новыми элементами обрядов, детали которых регламентировались самым тщательным образом. Это проявилось, в частности, и в культе святых: число будд и количество связанных с ними обрядов постоянно увеличивалось, что создает впечатление неуклюжести, громоздкости и противоречит принципам простоты религий на ранних этапах их развития.
Медитативные традиции эзотерического буддизма, предназначенные для духовной элиты, начинают раскрываться лишь в последнее время. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что методика медитации имела здесь значительно больше сложных элементов и прямо связана с другими эзотерическими традициями Востока. Широкое распространение, например, имела концентрация на цветных кругах (желтого, белого, красного, синего и черного цвета), диаметром около 25 см. Другие виды практики — медитация над отражением Луны на поверхности воды, а также — представление себя размером с насекомое. После того, как удастся добиться ощущения окружающего мира с точки зрения мелкого насекомого, следует в процессе медитации представить себя великаном величиной с гору. Считалось, что благодаря такой практике достигается космическое расширение сознания [111].
Исходно буддизм представлял собой скорее философскую школу, нежели был религией [28; 111; 159]. Характерная особенность раннего буддизма — отрицание активной роли богов и выдвижение на первый план моральных ценностей, беспрерывно вырабатываемых личностью в целях самосовершенствования и достижения нирваны [111]. Расцвет раннего буддизма относят к III в. до н. э., когда индийским царем Ашокой он был принят в качестве государственной религии. По мере дальнейшего распространения учение разделилось на два основных направления — Махаяну ("Большую колесницу") и Хинаяну ("Малую колесницу"), причем последняя ветвь имеет второе название — Тхеравада. Согласно учению Махаяны основная роль в спасении людей уделялась святому — бодхисаттве — поскольку основная масса народа неспособна своими усилиями достичь нирваны. Между миром страдания и нирваной промежуточное положение занимает рай, где обитают души людей, достигших спасения, но еще не попавших в нирвану. Благодаря поклонению буддам и особенно личным контактам с бодхисаттвой возможно мгновенное озарение и спасение. Эта крупная ветвь буддизма распространилась в Китае, Тибете, Монголии и дала затем много других направлений. Учение Хинаяны, закрепившееся в основном в южной части Индии и на Цейлоне, исходит из концепции постепенного прозрения человека, которое достигается в основном благодаря личным усилиям верующего. Отшельник-индивидуалист — вот основная фигура в Хинаяне, которая осталась наиболее близкой первоначальному буддизму.
Не только религиозные, но и философские аспекты учения Будды претерпели развитие и дифференциацию: возникали отдельные течения и школы. Так, на основе сугубо философской части буддизма выделились школы мадхьямика, йогачара, саурантика и вайбхашика [159]. Однако в средние века в Индии буддизм был вытеснен с большей части территории индуизмом, а сам Будда был включен в пантеон индуизма как одно из воплощений Вишну. Поэтому именно с Китаем в значительной степени было связано дальнейшее развитие буддизма. Помимо разных других ответвлений, там сформировалось поистине огромное количество разных сект и школ, часто совмещавших в себе наряду с концепциями буддизма даосские воззрения и частично еще более древние местные верования. Культурная традиция средневекового Китая формировалась на фоне таких учений, как, например, Цзюаньдао ("Путь Вечности"), Пусадао ("Путь Бодхисаттв"), Цинц-зинфа ("Закон Чистоты"), Юаньцзюефа ("Закон Просветления") и ДР. [145].
Несмотря на идейные расхождения сторонников различных школ и направлений буддизма и даосизма, можно выделить два существенных аспекта: сходство морально-нравственных заповедей и широкое использование медитации для постижения Истины, просветления и реализации религиозных целей спасения.
Этот синтез буддизма с даосизмом отразился не только на деятельности сектантов или, наоборот, политической деятельности крестьян в борьбе с феодальными порядками (например, в восстании тайпинов) [111]. Такой синтез проявлялся и в теории искусства, в высказываниях учителей живописи, подаии, литературной прозы. Особенно подверженной духу религиозно-философского созерцания, царившему в культуре средневекового Китая, оказалась поэзия [47; 87; 88]. Такой вывод дает изучение древней и средневековой китайской лирики. При этом поэты и живописцы занимали как бы промежуточное положение между религи-озжьфилософскнми наставниками и мирянами в огромной Поднебесной империи.
"Поднимаясь в горы, поэт поднимался над миром, над мирской суетой. Созерцая открывшиеся взору извивы рек, открывал свое сердце ритмам Вселенной, воды которой "подобны Дао"; оставшись наедине с одиноким деревом, сливался с ним мыслью. Поэт не чувствовал себя отделенным от окружающего мира непереходимой гранью: и сиротливое, на глазах меняющее свои очертания облако, гряда тяжелых, кажущихся такими незыблемыми гор, и он сам — слабое, недолговечное существо — равно виделись ему капельками вечно волнующегося, изменчивого океана бытия. Они были его частями;…поэт не оставался сторонним наблюдателем: прикоснувшись к истоку всех вещей, он видел их как бы изнутри; ощутив себя частицей целого, он мог разговаривать со всей природой на равных. "Я вместе со стихиями Инь и Ян в их потоке, созвучный первозданности изначального эфира"…Он становился подобен тому "совершенному мужу", который, по словам Чжуанцзы, "мог царить в облачном эфире и, оседлав солнце и луну, лететь за четыре моря".
Само созерцание движущихся вод, волнистой поверхности гор в чем-то было аналогично действию музыки, танца, ритму повторяющегося заклинания — мантры; оно вырывало человека из-под власти реальности, погружало в состояние транса. Пусть нам сейчас трудно представить себе это, но в китайском средневековье восприятие мира в какой-то степени было медитативным — в том смысле, что оно постоянно существовало рядом с созерцательными упражнениями и формировалось под их влиянием. Потому-то описание волшебного полета над Поднебесной, куда-нибудь далеко-далеко, к священным горам, нередкое в поэзии древности и раннего средневековья, не было просто художественным приемом для того, чтобы воспеть красоту мира, — для поэта подобный полет подчас являлся такой же реальностью, как и восхождение в мир духов для прорицателя… Искусство это строилось совершенно на иных началах и видело мир иным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
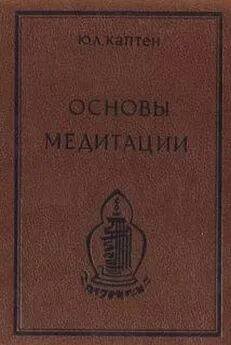

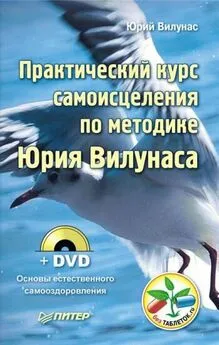
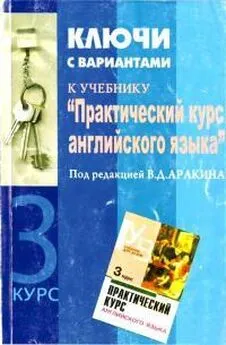
![Владимир Аракин - Практический курс английского языка 3 курс [calibre 2.43.0]](/books/1072035/vladimir-arakin-prakticheskij-kurs-anglijskogo-yazyk.webp)