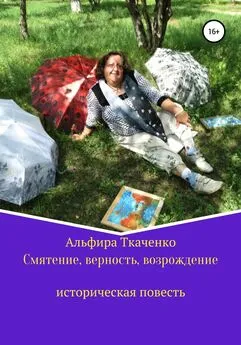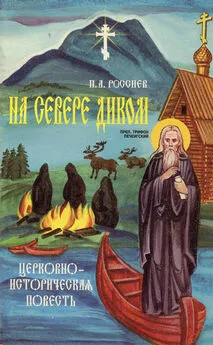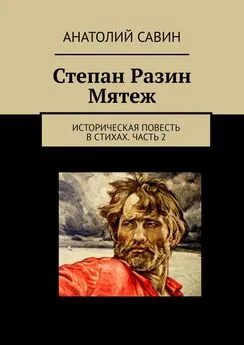Павел Россиев - На Севере диком. Церковно-историческая повесть
- Название:На Севере диком. Церковно-историческая повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7789-0093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Россиев - На Севере диком. Церковно-историческая повесть краткое содержание
На Севере диком. Церковно-историческая повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В боярских домах пожертвования в пользу лопарей текли обильно.
Видение Грозного
Восемь лет миновали. Трифон возвратился на Печенгу. Благодетеля своего и избавителя от голодной смерти-лопари и печенгские иноки встретили радостно. Обитель устроена. Но неспокоен еще Трифон. Не дает ему покоя мысль, что в будущем обитель может подвергаться всяким напастям со стороны властей. Оградить Печенгский монастырь от этих случайностей становится заветною мечтою апостола далекого Севера. Это последнее, что надо сделать для обители. Конечно, придется в третий раз покинуть тундру, но разве можно останавливаться перед трудностью путешествия, когда дело касается святыни, когда необходимо укрепить ее благосостояние? Кто-нибудь другой, но не Трифон, может ставить собственные удобства выше братских, выше благополучия обители и тех, кто удалился в нее от мирской суеты. Отложить путешествие Трифон также не может. Куда же надобно отправляться ему? Кто может оградить обитель от случайностей на вечные времена? Надобно идти в Москву. Царское слово — только оно и в силах оградить.
Шел 1573 год.
Трифон в это время был уже 78-летним старцем. Преклонные лета не давали возможности откладывать на завтра то, что можно было сделать сегодня. Болезни подкрались давно уже и могли уложить его на смертный одр, так что пришлось бы расстаться с мыслью об исполнении заветной мечты. Трифон глядел вперед, стараясь предусмотреть неприятное и предохранить от этого новую обитель. Медлить нельзя, говорил он себе, надо идти в Москву. Надо, надо. Надо просить царя оградить святыню от бед, хотя бы и мимолетных, и малых. Царское слово — закон. Царское слово — вернейший и надежнейший оплот. Это щит, которого не пробить никакой стреле произвола и насилия. Царь благочестив, думал инок. Благочестие — опора его. И наша. Царь щедр на дары обителям, сознавая, что иноки — истинные молитвенники об оставлении людских грехов вольных и невольных. Правда, и до северной тундры доходили слухи, будто переменился царь Иоанн Васильевич. Омрачилось чело его. Сдвинулись брови сурово, и взгляд его царский не изливает более той доброты, как при покойной царице Анастасии. Грозен стал Иоанн. Но для кого грозен, и то сказать? Ведь для мирян. Для бояр, для народа для кого угодно, только не для монаха.
Монах не от мира сего, лукавого, греховного, суетного. Иноческий чин — что ангельский. Отголоски земных страстей не долетают до честной обители. Она, словно небо, далека земли… И Грозный милостив к инокам. С ними он как равный с равными… Если же и прогневается на него, Трифона, так ведь царский гнев как бы отцовский. А отец рассердится на сына, да скоро и смилуется. Свое чадо-то, свое родное. Впрочем, за что ж на него, Трифона, и прогневаться царю? Нищ он и убог, криво не мыслит и таким возжелал быть, что среди равных стал меньшим. Мог бы быть господином, а он для всех слуга. И к царю Грозному вот теперь собрался не ради того, чтобы ходатайствовать о привилегиях для себя, а о покровительстве для ближних своих, для тех, кто переживет его, и для будущих, будущих иноков. А ему, семидесятивосьмилетнему старцу, много ли надо? У него все есть, что может иметь смиренный инок: келия, кусок черствого хлеба, кружка воды, убогая постель, а над нею изображение распятого Спасителя. Это все — и сверх этого ничего не надо. Ничего, ничего. Все помыслы инока сводятся к подвигу, посту и молитве. В них смысл монашеского существования. Они — ключи к вратам Царствия Небесного. Но для обители требуется гораздо большее. Обитель ведь целый мир, великий мир, которому необходима прочная основа для благополучия и процветания.
И Трифон идет в Москву. С ним — настоятель Соловецкого монастыря.
Москва времен Иоанна Грозного во многом изменилась в сравнении с тем, какою была до XVI столетия: она и приукрасилась храмами, и обстроилась домами. Однако о красоте «царствующего града» еще рано говорить. Царствование Иоанна Грозного, по словам историка И.М. Снегирева, не ознаменовано успехами в гражданской архитектуре, которой более покровительствовал Борис Годунов. Войны, пожары, моровое поветрие, многие опалы на бояр и на земщину, частое отсутствие царя в столице были причинами того, что от его времени осталось мало памятников гражданского зодчества, в то время как Борис Годунов (пользуюсь языком Никоновой летописи) «Москву, яко некую невесту, преизрядною лепотою украси и величества ради и красоты проименова Царь-град».
Воитель Иоанн Грозный уделял внимание литейному делу. При нем было отлито много колоколов и пушек, в том числе знаменитый дробовик «Царь-пушка». А так как русский человек без Бога ни до порога, то Иоанн Васильевич заботился и о построении церквей и о их благолепии. В ряду наиболее известных — величественный храм Василия Блаженного, что близ Кремля, и Китайгородские соборы. Церковные маковки поднялись над Москвой.
Царь Иоанн обратил внимание и на церковную живопись. В дальнем Сольвычегодске возникает новая живописная школа, которую создают знаменитые Строгановы — «строгановский пошиб отличается точностью обрисовки, тщательностью отделки мелочей и доличного, разнообразием в лицах, яркостью красок и, наконец, золотою иконописью». Но Строгановы — что! В самой Москве появляются такие изографы, как Феодор Ухтомский, Феодор Едикеев, Дионисий Изограф. Святители-митрополиты занимаются иконописным делом, возвышая его своим саном.
Новым повеяло. Устами владык и царя «Стоглав» предписывает: «с превеликим тщанием писать образ Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Богоматерь, и святых пророков, апостолов, священномучеников и мучениц, и преподобных жен, и святителей, и преподобных отцов, по образу и подобию, по существу, смотря на образ древних живописцев, и знаменовать с добрых образов, а святителям таковых живописцев беречь и почитать паче простых человек. Чтобы святые и честные иконы и бытейское письмо были не на соблазн миру, но во утверждение православию, и в просвещение и умиление! От самопомышления и своими догадками Божества не описывать!»
Какие споры велись по поводу иконного писания! Сам Иоанн Грозный стоит на страже Святой Церкви и упорно отклоняет все, что противно духу православия.
Помимо церквей, Москва не отличалась ни пестротой, ни особенным разнообразием или красотою зданий. Путешественники-иностранцы сравнивали ее по величине с главнейшими городами Западной Европы, но дальше этого сравнение не шло. Улицы составлялись преимущественно из деревянных домов и домишек. Точнее, это были брусяные избы. Печь в них заменялась очагом, освещение было лучинное. Избы крыли соломою. Окна реже были слюдяные, чаще слюду заменяли бычий пузырь и намазанный маслом холст. Через низкие двери москвичи входили в сени, не забывая при этом пригнуться; из сеней лесенка вела вниз в амбар, где сберегалось всякое добро, над которым находилось жилище. Уютом отличались только дома зажиточных москвичей. Мостовых и в помине не было. Летом на улицах росла трава, а зимою лежали снежные горы. Дом от дома, изба от избы отделялись или плетнем, возле которого росла всякая сорная трава, или фруктовыми садами, где летом щебетали птички. Выделялся лишь царский дворец. Все, что изобретал и изобрел уже человеческий ум в области зодчества, всякие вычурности и украшения не могли не коснуться царского дворца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
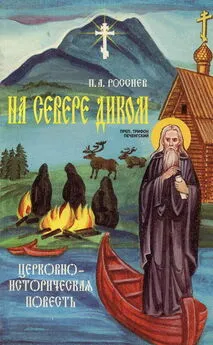
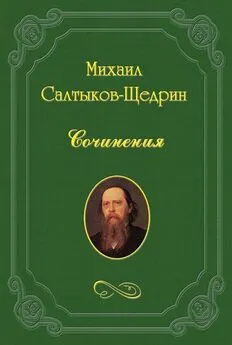

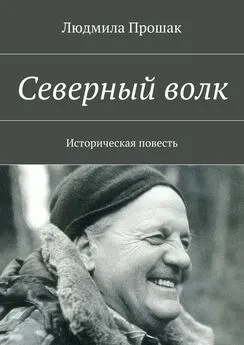
![Вадим Каргалов - У истоков России [Историческая повесть]](/books/1065087/vadim-kargalov-u-istokov-rossii-istoricheskaya-pove.webp)
![Николай Аксаков - Дети-крестоносцы [Историческая повесть для юношества. Совр. орф.]](/books/1069466/nikolaj-aksakov-deti.webp)
![Станислав Жидков - Римский трибун [Историческая повесть]](/books/1089896/stanislav-zhidkov-rimskij-tribun-istoricheskaya-pove.webp)