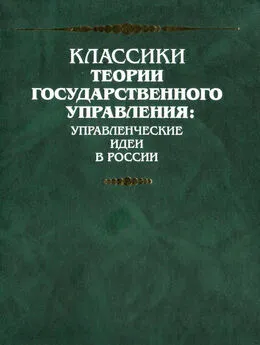Лев Тихомиров - Руководящие идеи русской жизни
- Название:Руководящие идеи русской жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт русской цивилизации
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-902725-17-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Руководящие идеи русской жизни краткое содержание
В книге впервые после 1912 года публикуется выдающееся произведение русского мыслителя Л.А. Тихомирова, предлагавшего России действенную программу проведения широкой национальной реформы и беспощадной борьбы с внутренними врагами государства, толкавшими страну к революционным потрясениям, разрушению русской Церкви, культуры и морали. Многие мысли и предложения Тихомирова остаются актуальными и по сей день в условиях масштабных оранжевых революций, финансируемых США и их западноевропейскими сателлитами, опирающимися, как и в 1917 году, на поддержку внутренних врагов России, тех же самых, что и 100 лет назад.
Руководящие идеи русской жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это нападение с тыла настолько возмутительно, что оставление его безнаказанным само по себе составляет факт ненормальный и деморализующий. Граф Вл. Бобринский хлопочет о признании запроса «недобросовестным». Это оценка нравственная. Но по отношению государственных учреждений не менее важна точка зрения юридическая. Государственные учреждения имеют служебные обязанности, и нарушение их составляет преступление по должности. Наши же Государственные Думы всех трех созывов дали все формы несомненного преступления по должности. В центральном пункте они все сводятся тому, что это государственное по закону учреждение позволяет себе быть явно или скрыто антигосударственным, позволяет себе вместо обязательной для его поддержки Русского государства вступать в союз с ниспровергающей его революцией. Нося название «Государственной Думы», это учреждение в лице огромной части своих членов и даже в коллективной деятельности своей слишком часто заслуживало только название «революционной Думы». Какой же, однако, смысл такого учреждения? Для чего оно может быть нужно стране и государству?
Мы имеем надобность в представительстве народа перед государством; государство имеет надобность в представительстве народа в своих учреждениях. Но ни народ Русский, ни государство не имеют никакой надобности в представительстве революции в государственных учреждениях. Революционеры могут собирать свои конгрессы, где им угодно. Но зачем их конгресс заседает в Таврическом дворце? Зачем они пишут для нас законы? Зачем они, получая огромные права и государственное содержание, служат не государству, а своей «революции»?
Это — зрелище, которого смысл никто не может ни понять, ни объяснить. Это какая-то ирония неудачно составленных законоположений. Собираются революционеры, отрицающие государство, отрицающие даже наш социальный строй, люди явно и открыто ставящие целью своей деятельности ниспровержение того и другого, и государство их терпит в своей среде, оно позволяет им ниспровергать наш строй под охраной закона!
Это — абсолютно ненормальное положение. Это — бессознательное нарушение обязанностей государства перед самим собой и нацией, и оно проявляется у нас при реформированном строе вот уже несколько лет. Мыслимо ли думать при этом о каком-то умиротворении страны? Возможно ли оно при такой «конституции»? Ведь в сущности революционная часть наших «законодателей» играет при государстве ту же роль, как убийца Карпова играл при своей жертве. Абсурд увеличивается лишь тем, что Воскресенский, по крайней мере, обманывал полковника Карпова, а думские революционеры (кроме, может быть, кое-кого из октябристов) даже никого не обманывают. Они сами грозят революцией, сами заявляют, что присутствуют среди государственных учреждений именно для того, чтобы убить это государство. Получается такая «адская машина», которую даже не прячут ни под стол, ни под диван, а открыто пускают в ход с трибуны.
На все эти ненормальности, из года в год тянущиеся, мы, когда положение становится совершенно нестерпимым, отвечаем только роспуском Думы. Но роспуск палаты понятен только в тех случаях, когда государство считает полезным проверить разногласие мнений между правительством и избирателями. В отношении наших Дум вопрос был и остается совсем иной. Наши Думы наиболее плохи тем, что слишком легко превращаются в суккурсал [106] От исп. sucursal — филиал.
революции. При таком положении с избирателями вовсе не о чем совещаться, а необходима реформа самого учреждения. Что могут тут сделать избиратели? Предполагается само собой, что избиратели не желают и не могут желать революции. Вопрос не в этом. Вопрос в тех изменениях, которые необходимо совершить в самом учреждении Государственной Думы для того, чтобы превратить ее из учреждения вредного в учреждение полезное. Вопрос также в том, чтобы виновные в нарушении служебного долга члены Думы не оставались безнаказанными за свои деяния.
Борьба за Верховную власть
Наш талантливый сотрудник г-н Юрский, соединяющий серьезное юридическое образование с тонким знанием дел Государственной Думы, только что дал Московским Ведомостям (№№ 184–185) подробное рассмотрение того употребления, которое Государственная Дума делает из права запросов. Не один раз мы говорили и сами об этом предмете. Но г-н Юрский соединяет в одну картину фактические данные целого периода, и тенденция «запросов» вырисовывается у него с чрезвычайной яркостью.
В чем она состоит? В стремлении систематически сверхзаконно увеличивать власть Думы над правительством и даже распространять ее на области прерогатив Верховной власти, хотя, конечно, уже и подчинение правительства Думе составляет вторжение в область Монарших прерогатив, выражает стремление уравнять права Думы и права Монарха, Которому, по закону, присвоена Верховная власть.
Как известно и как неоднократно мы показывали на фактических примерах, совершенно то же стремление к подчинению себе правительства практикуется Думой путем данных ей бюджетных прав. Уже в самом начале работы третьей Думы левые фракции толкнули ее на такое употребление бюджетных прав и увлекли за собой огромное большинство. Даже и правые фракции, как, например, под влиянием общего возмущения деятельностью Морского Министерства, вступали на пути применения бюджетных прав к понуждению правительства на исполнение желаний Думы. В заключениях своего исследования г-н Юрский отмечает некоторые недостатки узаконений и думского наказа, которыми облегчается такое злоупотребление правом запроса. Предоставляем специалистам разработку тех улучшений, которые можно было бы произвести на этой почве. Но, несомненно, большого толка нельзя ожидать от этих улучшений, ибо сущность дела состоит не в недостатках наказа или иных частностей закона, а в самом характере Государственной Думы, законом созданной, и в отношениях самого же закона к Верховной власти.
Что действительно происходит в наших высших государственных учреждениях на почве тенденциозного применения права запросов и не менее тенденциозного пользования Думой бюджетными правами? Это, как мы много раз выясняли и как известно решительно всем, имеющим очи и уши, чтобы видеть и слышать, — это есть проявление борьбы за Верховную власть. Наш закон — по крайней мере по букве — оставил и после 1906 года Верховную власть за Монархом. Но тот же закон рядом статей ограничил власть Монарха властью Думы, ограничил власть Монарха уже даже тем, что перечисляет Его права, а следовательно, кладет им грани, и даже не особенно широкие. Укажем, например, что власть, именуемая в статье 4 Основных законов Верховной, по статье 119 тех же законов не может без одобрения Думы и Совета призвать на защиту отечества большего количества рекрутов, чем было последний раз разрешено этими учреждениями. Понятно, что весь ряд статей, ограничивающих власть Монарха, фактически разделяет Верховную власть между Монархом и так называемыми ныне «законодательными палатами». В самих законах, таким образом, заключаются не доведенные до конца начала парламентарного построения Верховной власти, то есть присвоения ее не одному Монарху, а двум палатам и Монарху в совокупности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: