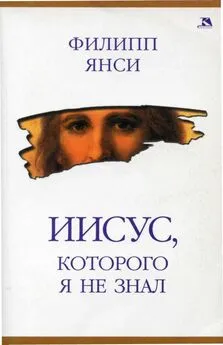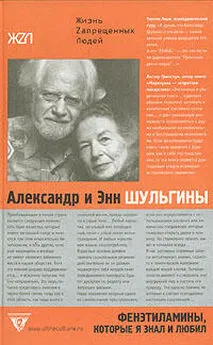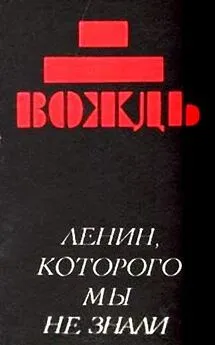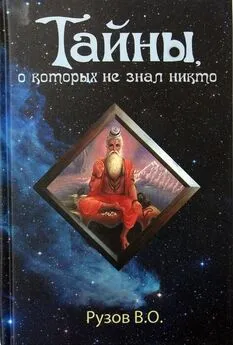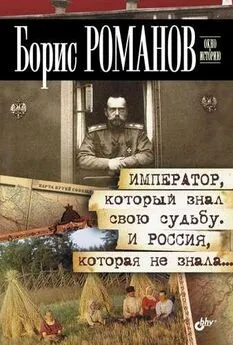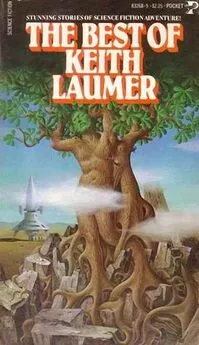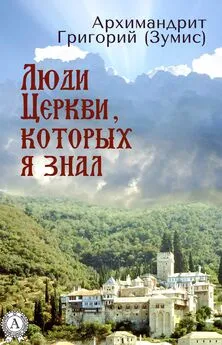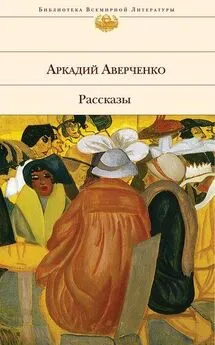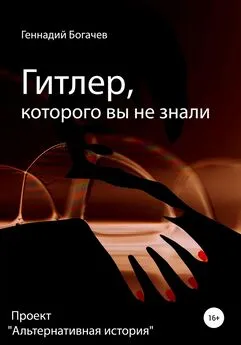Иисус, которого я не знал
- Название:Иисус, которого я не знал
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Кайрос»
- Год:неизвестен
- Город:Санкт–Петербург
- ISBN:ISBN 5–89829–005–2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иисус, которого я не знал краткое содержание
Иисус, которого я не знал - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Явления Иисуса, приблизительно около десяти, являют собой определенную схему: Иисус появлялся перед небольшими группами людей, в отдаленных местах или за запертыми дверями. Хотя эти интимные встречи укрепляли веру тех, кто уже верил в него, при том, что, насколько нам известно, ни один из неверующих не видел Иисуса после его смерти.
Снова и снова перечитывая описания казни и Воскресения, я иногда поражался тому, почему Иисус не являлся своим ученикам чаще. Для чего ограничивать число посещений своих друзей? Почему не появиться снова на галерее у Понтия Пилата или перед Синедрионом, на этот раз испепелив тех, кто торжествовал над ним? Возможно, ключ к такому поведению Иисуса мы можем найти в его словах, обращенных к Фоме, в тот день, когда скептицизм Фомы развеялся навсегда. «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие».
В шестинедельный промежуток между Воскресением и Вознесением Иисус, если можно так выразиться, «нарушал свои собственные правила» относительно веры. Он сделал свою сущность столь очевидной, что ни один ученик больше уже никогда не мог вновь отрицать ее (и ни один из них этого не делал). Одним словом, Иисус завладел верой очевидцев: каждый, кто видел воскресшего Иисуса, терял свободу выбора: верить в него или не верить. Теперь фигуру Иисуса нельзя было поставить под сомнение. Даже брат Иисуса Иаков, который всегда держался в стороне, капитулировал после одного из явлений Иисуса — этого оказалось достаточно для того, чтобы он стал лидером иерусалимской церкви и, по словам Иосифа Флавия, умер как один из раннехристианских мучеников.
«Вы поверили, потому что увидели Меня», — сказал Иисус. Этим нескольким привилегированным людям трудно было разувериться. Но как насчет остальных? Очень скоро, как это было хорошо известно Иисусу, его появления во плоти должны были ограничить круг верующих лишь «невидевшими». Церковь, так или иначе, должна была основываться, сколь впечатляющими бы ни были свидетельства очевидцев, на тех — включая нас, — кто не видел. У Иисуса было шесть недель для того, чтобы явить свою сущность на все времена.
То, что Иисусу удалось превратить кучку капризных ненадежных последователей в бесстрашных евангелистов, то, что одиннадцать человек, которые бросили его в тяжелую минуту, теперь шли на мучительные пытки, доказывая свою веру в воскресшего Христа, то, что этим нескольким свидетелям удалось привести в движение силу, которая преодолела мощное сопротивление со стороны оппозиции в Иерусалиме, а затем в Риме, — эти явные последствия их преображения являются самым убедительным доказательством Воскресения. Как еще можно объяснить мгновенную перемену в людях, известных своей трусостью и непостоянством?
Другие — по меньшей мере пятнадцать евреев, жившие в век Иисуса, — сделали так, что пророчества Мессии стали едва заметным мерцанием, подобным мерцанию гаснущей звезды. Однако фанатичная приверженность Иисусу не исчезла с их смертью. Произошло что–то беспрецедентное. Конечно же, ученики не пожертвовали бы своими жизнями ради тайной теории, разработанной ими. Конечно же, было бы проще и естественней преклоняться перед погибшим Иисусом как перед одним из пророков–мучеников, чьи могилы были столь почитаемы евреями.
Достаточно прочитать, как Евангелия описывают конспиративные собрания учеников, а затем обратиться к описаниям тех же самых людей в Деяниях Святых Апостолов, когда они открыто провозглашают Христа на улицах и в тюремных камерах, чтобы понять потрясающую важность того, что произошло в Пасхальное Воскресенье. Воскресение является эпицентром веры. «Нет такой веры, — говорит Ч. Г. Додд, — которая сформировалась внутри церкви; существует вера, вокруг которой сформировалась сама церковь, и на „данность" которой эта церковь опирается». Романист Джон Апдайк выразил эту же истину более поэтично:
Не сделай ошибки: если Он и воскрес,
то воскресло Его тело;
если б все не обратилось вспять, молекулы
не воссоединились, аминокислоты не восстановились,
Церковь бы пала.
«Блаженны невидевшие и уверовавшие», — сказал Иисус неверующему Фоме, рассеяв его сомнения осязаемым доказательством чуда Пасхи. За исключением тех пятисот с лишним людей, перед которыми появлялся воскресший Иисус, любой из когда–либо живших христиан подпадает под категорию «блаженных». Я спрашиваю себя, почему я верю? — я, похожий на Фому своим скептицизмом и колеблющийся принять на веру то, что не может быть доказано, больше, чем на любого из учеников.
Я взвесил аргументы в пользу Воскресения, и они выглядят впечатляющими. Английский журналист Фрэнк Морисон описал большинство из этих аргументов в классическом произведении «Кто сдвинул камень?» Хотя Морисон попытался изобразить Воскресение как миф, очевидность этого события убедила и его. Однако я также знаю, что многие интеллигентные люди видели эту очевидность и считали для себя невозможным в нее поверить. Хотя многое в Воскресении вызывает веру, ничто не делает его неопровержимым. Вера требует возможности отречения, в противном случае, она не являлась бы верой. Но что тогда дает мне вера в Пасху?
Я признаю, что одна из причин моей веры заключается в том, что в глубине души я хочу, чтобы история Пасхи оказалась правдой. Почвой, на которой произрастает вера, является жажда веры, нечто инстинктивное в людях вопиет против царства смерти. Неважно, принимает ли вера такую форму, как у египетских фараонов, прячущих свои украшения и колесницы в пирамиды, или, как у современных американцев, стремящихся прожить как можно дольше, до последней наносекунды пытающихся сохранить себя, бальзамируя свои тела в запечатанных гробах, мы, люди, сопротивляемся идее смерти, за которой остается последнее слово. Мы хотим верить в иной исход.
Я вспоминаю тот год, когда я потерял трех своих друзей. Больше всего я хочу, чтобы Пасха оказалась правдой, потому что она гарантирует, что однажды мои друзья вернутся ко мне. Я хочу навсегда забыть слово безвозвратно.
Я полагаю, вы можете сказать, что вы хотели бы верить в сказки. Я не один. Человечество всегда создавало сказки. Впервые мы слышим их в колыбели от наших родителей, бабушек и дедушек, и пересказываем их нашим детям, которые расскажут их своим детям, и так от поколения к поколению. Даже в наш век науки некоторые из самых популярных фильмов представляют собой вариации сказок: «Звездные войны», «Аладдин», «Король Лев». Как ни странно, в истории человечества большинство сказок имеет счастливый конец. Этот древний инстинкт, надежда, прорывается наружу. Так же, как и в жизни, в сказках есть много страдания и боли, однако, несмотря на это, они заканчиваются так, что слезы уступают место улыбке. Пасха приводит к тому же результату. И по этой причине, так же, как и по многим другим, она выглядит правдиво [22] Дж. Р. Р. Толкиен, наверное, самый великий создатель сказок нашего века, часто оказывался лицом к лицу с обвинением в том, что фэнтези — это путь, дающий нам возможность «побега» из реальности, возможность отвлечься от невзгод «реального мира». Его ответ был прост: весь вопрос в том, от чего человек бежит. Побег дезертира и побег заключенного мы воспринимаем совершенно по–разному. «Разве можно осудить человека, если, находясь в тюрьме, он пытается выйти на свободу и отправиться домой?»
.
Интервал:
Закладка: