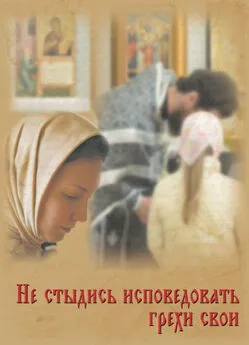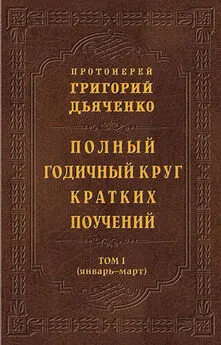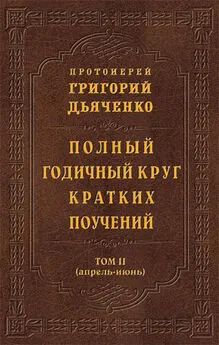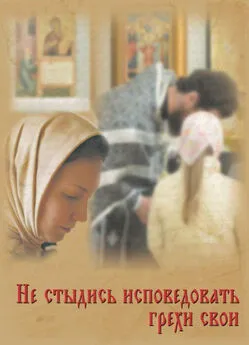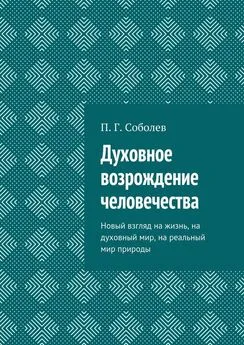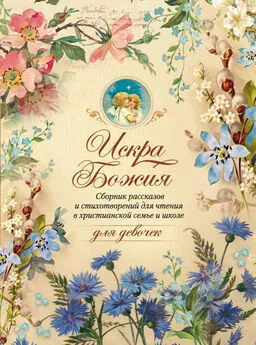Григорий Дьяченко - Духовный мир
- Название:Духовный мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Дьяченко - Духовный мир краткое содержание
Настоящая книга, состоя в тесной связи с только что вышедшей книгой под названием: Из области таинственного. Простая речь о бытии и свойствах души человеческой. имеет, тем не менее, свое самостоятельное содержание и план. Главное назначение первой книги состоит в том, чтобы убедить читателя силою неотразимых фактов, добытых преимущественно из области опытной психологии, в той истине, что человек имеет душу, как разумную, свободную, бессмертную, духовную сущность, наделенную такими дивными свойствами, что они ясно и неотразимо свидетельствуют о ее богоподобии; – вторая, т. е. настоящая книга приводит читателя путем рассказов, полных, как нам кажется, самого глубокого жизненного интереса, и доступных по изложению и содержанию размышлений к дальнейшим истинам: к бытию Бога, Творца души человеческой и всего видимого и невидимого мира, т. е. бесплотных сил, из коих – одни святые ангелы, а другие – духи тьмы, демоны.
Составитель этой книги хорошо знает, что сухое, строго научное изложение здесь, как и в первой книге, было бы неуместно: и слишком ещё мало читателей у нас привыкло к чтению с таким изложением. Вот почему мы здесь, как и ранее, поместили и ряд рассказов, заимствованных из вполне достоверных и компетентных источников, которые показывают бытие Божие в природе, в душе человека, в частной жизни людей, во всемирной истории человеческого рода, в истории христианской церкви, и т. д.
Конечно, это не доказательства[1], в строгом смысле этого слова, истины бытия Божия, но это то, что заменяет их в известной степени, или, во всяком случае, это то, что приводит всякого непредубежденного человека к внутреннему сознанию необходимости бытия Божия и духовного мира вообще. Подобным же образом мы поступали и с другими главами – об ангелах и демонах.
В этой последней главе мы поместили весьма необходимую по нашему мнению статью, которая изображает характерные свойства большой истерии и дает возможность отличить истерический припадок и, болезни так называемых кликуш от одержания демонами, или беснования, что, к сожалению, к великому соблазну и еще, и большему вреду, нередко смешивается незнающими.
Цель настоящей книги – противодействовать злому духу нашего времени, который проповедует безбожие, грубый материализм и нечестие. Его гибельное дыхание, начинаясь из Парижа, как современного очага неверия и нечестия, мало-помалу, охватывает все страны мира и хотя еще не в – ясных, но грозных знамениях сказывается уже и в России[2] . Если бы по прочтении этой книги читатель приобрел живое, глубокое и сердечное убеждение в бытии духовного мира, – если бы, благодаря нашей книге, он пришел к более истинному и даже более радостному воззрению на мир и жизнь человека, которая вся проходит под воздействием божественного Промысла и бесплотных хранителей людей – св. ангелов хранителей, – если бы он из нашей книги почерпнул иное направление, вносящее в сферу мышления свет истинного знания, в сердце – мир и радость при представлении будущей посмертной жизни человека во свете блаженства с Христом, в область воли – мужество в несчастиях, бодрость в деятельности, терпение в скорбях и смиренную покорность божественному Провидению, – направление согласное с учением православной церкви и таким образом прямо противоположное гибельному и разрушительному духу нашего времени, вносящему в умы, сердца и волю своих поклонников умственный мрак, безысходную тоску и отчаяние, заключающееся иногда самоубийством, животную разнузданность в нравах и готовность к самым злым проявлениям извращенной воли, ко всяким преступлениям: то составитель, прося у него о себе святых молитв, счел бы труд свой вполне достигшим намеченной цели.
Протоиерей. Г. Дьяченко. 1900 г. июня 1 дня.
Духовный мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мальчик очень любил церковную службу. Он не пропускал ни одного богослужения и бежал в церковь при первом ударе колокола. Часто заставали его у храма пред запертыми дверями, погруженного в молитву, далекого от всего, что его окружало.
Зная на горьком опыте, что такое сиротство и гонения, он рано стал помогать бедным от своей собственной нищеты. Он лишал себя для того необходимого и раз, увидав мальчика в лохмотьях, снял с себя рубашку и отдал ему, а сам вернулся домой в одном верхнем платье. Но за это воспитатель его строго наказал.
С семилетнего возраста священник стал обучать его грамоте, как вскоре умер. Горько оплакивал его несчастный мальчик. Нужно было, однако, где-нибудь приютиться. Церковный староста решился отвести мальчика к его матери, надеясь, что время смягчило ее прежнюю ненависть.
Но как только яростная женщина завидела сына (она в то время колола лучину) как бросила в него топором, и рассекла ему правое плечо.
Староста бросился скорее бежать из этого дома, уводя с собою и ребенка. Дома он перевязал ему раны и оставил при себе, пока его не залечили.
Разузнав, что в Киеве в Братском монастыре живет дядя Фомы, вдовый священник, староста отвез к нему Фому, сдал его на руки этому монаху и пересказал ему все грустные в трудные обстоятельства его жизни. Здесь и стал жить Фома. При Братском монастыре находится Киевская духовная Академия, и в принадлежащей ей школе Фома обучался.
Безумная мать, наконец, смягчилась. Она заболела неисцелимою болезнью и со слезами раскаивалась в своих поступках с сыном. Особенно подействовал на нее сон, в котором она видела себя пред страшным судом Божиим, а сына кротко молящимся за нее. И сын имел отраду быть при кончине матери, слышал от нее просьбу простить ее и молиться за нее и получил от нее благословение.
Учился Фома прилежно. Но наука не удовлетворяла запросов его души. Он жаждал тех высших духовных познаний, которые открываются чистым сердцам чрез озарение от Бога. Выше училища он ставил для себя храм, и здесь, среди чтения и пения, он уходил в думы о Боге и в глубочайшую сосредоточенную молитву. Желание иночества охватывало его, и он твердо решил стать монахом.
Недолго жил дядя и, умерев, оставил мальчика без всяких средств и пристанища. Продолжать учиться было невозможно, и Фома определился послушником в Братский монастырь. Здесь он бил последовательно определен к послушаниям на хлебне, на кухне, звонарем и пономарем. Углубленный в молитву, кроткий, смиренный и целомудренный Фома жаждал отречься совсем от мира и произнести монашеские обеты. 11 декабря 1821 г., 33 лет от роду, он был пострижен с именем Феофила. Чрез год рукоположен в иеродиаконы. Не имея никакой собственности, Феофил все же исполнял великую заповедь милосердия. Он принимал на себя труды, назначенные другим, исполнял послушания низшей братии, служил богомольцам, приходившим в лавру, оставался по два и по три дня без пищи, чтобы отдать свою долю нуждавшимся.
В 1827 г., рукоположенный во иеромонаха, о. Феофил назначен монастырским экономом, но он просил уволить его от этой обязанности и позволить ему удалиться в пещеры, ископанная в с. Лесниках преп. Феодосием Киево-Печерским. Но ему в том отказали, и тогда Феофил принял на себя тяжкий подвиг юродства. В 1834 г. он был пострижен в схиму с удержанием имени Феофила.
Далекий от житейской суеты, пренебрегая правилами житейского быта, Феофил удалялся от людей и редко с кем разговаривал. Спокойный, задумчивый, всегда с потупленными глазами он ходил только из кельи в церковь, не пропуская ни одного богослужения.
Он останавливался у церковных дверей или в притворе и стоял неподвижно до конца службы. Всегда около него находилась корзина, ведро, кувшин или другая посуда, которую он всюду носил с собою. Иногда он спускался к Днепру, за водой, и тогда иногда садился в лодку и переправлялся чрез реку, и на том берегу, зайдя в чащу кустарников, предавался молитве. Он не искал перевозчика и, выбрав какую-нибудь чужую лодку, садился в нее и греб сам. Об этом обычае его знали, и ему не мешали.
Старец, не любил, чтоб на него обращали внимание, и, если кто подходил к нему за благословением, он делал это спешно и на ходу. Заметив, что его ждут богомольцы, он делал большой крюк, чтоб обойти их, особенно если то были не простолюдины.
– Чего вам нужно от меня смердящего? – говорил он своим почитателям. – Обращайтесь с чистою верою к Пречистой Божией Матери и св. угодникам Печерским. Они вам все дадут, что нужно. А у меня ничего нет. Подите!
Когда же к нему в келью входил какой-нибудь из образованных людей, Феофил говорил: «я невежа, простец, несведущий и неученый; в состязание с вами входить не могу, а пустословить не хочу; чего доброго, вы, нынешние мудрецы, пожалуй, и меня собьете с пути».
Так говорил он людям, гордым своею мнимою мудростью. Но, когда к нему приходил простой человек, жаждавший полезного слова, Феофил принимал его охотно, хотя не удлинял беседу. Он говорил какую-нибудь знаменательную притчу или даже резкий укор, освещавший посетителю все его душевное состояние. Часто он давал какую-нибудь вещь, незначительную, но содержавшую намек па предстоявшую человеку участь.
На внешность свою Феофил, занятый молитвою, не обращал никакого внимания, навлекая на себя от некоторых укоры в неряшестве. Он носил ветхую одежду, всю исшитую белыми нитками; грудь была почти и всегда полуоткрыта, на ногах изорванные туфли, а то иногда на одной сапог, а на другой валенок. Голова была иногда повязана грязним полотенцем. Замечали, что, чем неопрятнее он одет, тем неспокойнее внутреннее состояние его души. Когда Феофил приступал к своим келейным молитвам, он надевал на себя мантию, а пред чтением евангелие и акафистов надевал епитрахиль и фелонь и зажигал три лампады. Опоясанный по телу железным поясом с иконою Богоявления, которой он никогда не снимал, он клал множество поклонов, а для отдыха прислонялся к стене или ложился на узкую скамью. Постоянно занятый внутреннею своею жизнью, он не заботился о порядке в келье, и когда его спрашивали, как это он допускает у себя такую неустроенность, он отвечал: «пусть все вокруг меня напоминает мне о беспорядке в моей душе». Кроме стола, аналойчика и скамейки, в комнате ничего не было. Печка топилась курящимся не рубленным бревном, и в комнате бывало так холодно, что замерзала вода. Но старец, надев тулуп и валенки, становился на молитву и, весь охваченный ею, уже ничего больше не замечал.
Денег Феофил не брал, а если после долгих о том просьб, и соглашался взять, то тут же раздавал их бедным.
Чтоб не оставаться праздным, он сучил шерсть, вязал чулки и ткал холст, который давал иконописцам для их работы. Трудясь, он читал наизусть псалтирь и разные молитвы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: