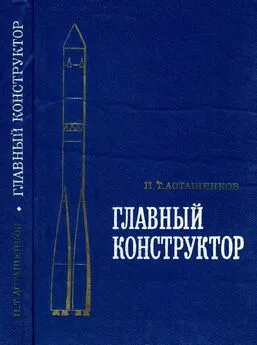Петр Минин - Главные направления древне-церковной мистики
- Название:Главные направления древне-церковной мистики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Минин - Главные направления древне-церковной мистики краткое содержание
Главные направления древне-церковной мистики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но гносис Климента – не интеллектуальной только природы, но – и в этом отличие его от еретического – и моральной. Правда, мистическая жизнь прежде всего и более всего есть theoria epistemonike , но, рассматриваемая в целом, она есть общее мистическое душерасположение. Климент нередко говорит о гносисе, как истинной добродетели; рядом с ним он ставит любовь, как видимо равноправное начало человеческой жизни и нравственное совершенство оценивает так же высоко, как и интеллектуальное. Нередко он как будто колеблется, какому из двух начал отдать предпочтение – gnosis 'у или agape . Христианин и философ борются в нём из-за влияния на его мысль. И, тем не менее, весь строй его воззрений свидетельствует, что если он иногда и останавливался над этим вопросом в раздумье, то фактически предпочтение отдавал гносису. Любовь рассматривается им не столько, как главное и самостоятельное начало христианской жизни, сколько только как одно из условия гносиса. Именно знание и незнание являются для него крайностями добра и зла. Спасение есть прежде всего приобретение правильного знания, потом восстановление внутренней симметрии через возвращение путём созерцательной деятельности мысли в первоначальное единство. Если гностику было бы предложено сделать выбор между гносисом и вечным спасением, он без колебания остановился бы на гносисе. Климент не колеблется сказать, что сам Христос есть прежде всего и более всего нам учитель и педагог, и что дело спасения, совершённое Им, заключается главным образом в сообщении нам истинного гносиса.
Так уже у Климента Александрийского мы находим не только начало христианской мистики, но и черты абстрактно-спекулятивного направления в ней. Но этого мало. В его учении мы можем находить начатки и того разветвления древнегреческой мистики, которое позднее стало известно под именем исихии. Его учение о молитве, как внутренней, безмолвной и непрестанной беседе с Богом, этой предтече «умной молитвы» последующих мистиков, его взгляд на значение этой молитвы, как на жертвоприношение и прямой путь к единению с Богом [10] [10] Strom. VII, 7; р. п., стр. 823: «мудрец истинный всю жизнь свою проводит в молитве, чрез оную стремясь жить в единении с Богом»; ср. 833: «обыкновенные жертвоприношения его суть молитвы».
, всемогущее магическое действие этой молитвы, резкий индивидуализм гностического идеала, наконец, anapaisis – полный покой духа как конечный пункт христианской жизни, осуществляемый правда только по ту сторону этой жизни, там, в горней церкви, где предстанут философы Бога, истинные израильтяне, и где мы познаем Бога, как Сын познаёт (но, – замечает Климент против еретиков и стоиков, – не более, ибо никакой ученик не бывает более своего учителя) – всё это такие черты, которые в учении исихастов нашли себе только более подробное раскрытие.
Будучи отцом христианской мистики, Климент не был мистиком в собственном смысле слова. Рекомендуемый им katharsis носит умеренный характер. Он говорит не столько о внешнем удалении от мира, сколько о внутреннем препобеждении мира. Отсюда у него – положительное и миролюбивое отношение к практическим задачам жизни, – более положительное, чем у кого-либо другого из представителей древнехристианской мистики. Если он ведёт речь о мистериях Логоса, противопоставляя их языческим, об эпоптии, о видениях, то это – скорее язык его школы, чем факты личной его жизни. Гностик – не визионер, не теургист и не антиномист. Он не знает эксцессов еретичествующего мистицизма и не любит тех восхищений духа, которые Плотин, за время пребывания своего с Порфирием, переживал только четыре раза и которые в опыте Марии Терезы продолжались каждый раз не более получаса. Путь, ведущий гностика к высшему состоянию духа, – не транс, но дисциплинирующий разум. И, тем не менее, значение Климента в истории христианской мистики чрезвычайно велико. Своим учением он преднаметил то русло, по которому направилось главное течение древнехристианской мистики, и впервые выработал тот аппарат понятий и аргументов, с которыми стали оперировать позднейшие мистики.
Но наиболее видным и типичным идеологом абстрактно-спекулятивного направления мистики является автор произведений, дошедших до нас с именем апостольского мужа, Дионисия Ареопагита.
2. Мистика Ареопагитик
Мистика ареопагитик – произведений неизвестного автора, дошедших до нас с именем Дионисия Ареопагита, но появившихся не ранее второй половины IV века, – стоит в тесной связи с их метафизикой и вместе с последней носит некоторые следы влияния неоплатонической теософии, бывшей чрезвычайно популярной среди мыслителей того времени. Учения о Боге, как бескачественной монаде, понятия «блага», «зла», «обожения» в мистике ареопагитик так же, как и в мистике неоплатонической, носят скорее отвлечённо-метафизический характер, чем этический: главной силой, возводящей человека на высшую ступень обожения, является гносис – созерцание; само обожение совершается скорее на пути абстрактно-спекулятивной деятельности ума, чем на пути религиозно-нравственного совершенствования. Всё это – такие черты, которые сближают мистику Дионисия с мистикой неоплатонизма. Тем не менее, не следует преувеличивать значение этого влияния неоплатонической философии на Дионисия. Неоплатоническая литература играла для последнего роль не источника, а самое большое – пособия при философской обработке того материала, который он черпал непосредственно из своего мистического опыта и из церковного учения. Однородность мистических переживаний могла породить совпадение основных линий философской концепции, а верность церковному учению дала ему возможность отвести в своей мистике видное место литургически-сакраментальному моменту и сообщила ей церковный характер.
Кардинальным пунктом мистики Дионисия является учение об обожении (theiosis) человека. Так как это учение стоит у него в тесной связи с его метафизикой, то для уяснения первого нам необходимо следует коснуться основных положений последней.
Исходным пунктом ареопагитской метафизики служит учение о Боге. Особенностью этого учения является его отвлечённо-спекулятивный характер. Таким характером оно запечатлено не только в апофатическом богословии Дионисия, но даже в катафатическом. Важнейшими предикатами, которые усвояет Божеству катафатическое богословие, являются предикаты блага, красоты и любви. Бог есть не только благо, но самоблаго, сверхблаго. Он – благо, потому что всему сущему даёт благо; только благодаря Его благу всё сущее существует и причастно Ему; другими словами, предикат блага означает только то, что Бог есть первопричина и последняя цель всего сущего. Таким образом, благо в понимании Дионисия, будучи тожественно с понятием причинности, лишено этического содержания: agathon означает on, с предикатом «творящее», «действующее». Такое же метафизическое значение имеют предикаты красоты и любви. Красота есть форма, в которой мы всё сущее воспринимаем. Если Бог блага всё сущее приводит в бытие, то Бог красоты всему сущему сообщает соответствующую форму. Отсюда следует, что красота в существе тожественна с благом. И красота, и благо суть первопричина всего прекрасного и доброго, благо с материальной стороны, красота – с формальной, и если они могут быть различаемы, то только теоретически, но никак не фактически. Наконец, Бог есть Бог любви, потому что Он обо всём печётся и всё сущее объединяет, связует и поддерживает своей силой; таким образом и божественная любовь, в своём последнем основании, есть ничто иное, как непрестанное движение, направляющееся из Божества в сущее и из сущего в Божество возвращающееся. Итак, понятия блага, красоты и любви в конце концов означают божественные силы, производящие бытие и сохраняющие его существование. В аналогичном смысле Бог именуется также жизнью, мудростью, разумом, истиной, справедливостью, миром и т. п. Ещё явственнее метафизическая тенденция проглядывает в апофатическом богословии. Дионисий неистощим в перечислении всевозможных предикатов, которые не могут быть присвоены Богу. Какие бы предикаты мы ни приписывали Ему, мы с гораздо большим правом должны отвергнуть их, как несоответствующие существу Божию. Так по Дионисию, Бог не есть ни душа, ни разум, ни воображение, ни мышление, ни жизнь, ни сущность, ни имя, ни знание, ни истина, ни мудрость, ни благость, ни движение, ни покой, ни единство, ни множество, ни дух, ни божество, ничто из несуществующего и ничто из существующего, но выше всего. Таким образом, Бог есть высшая трансцедентность и в метафизическом и в гносеологическом смысле. Мысль о трансцендентности Божества – церковная мысль, но нельзя не отметить, что в то время, как в христианстве эта трансцедентность характеризуется этическими чертами, у Дионисия, как и в неоплатонической теологии, она исключительно метафизической природы. Бог есть космическое En, простейшая Единица, бескачественная Монада.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

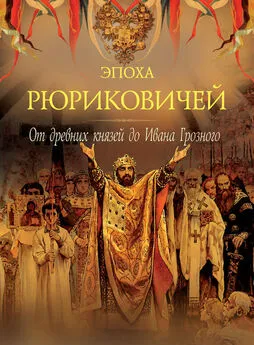
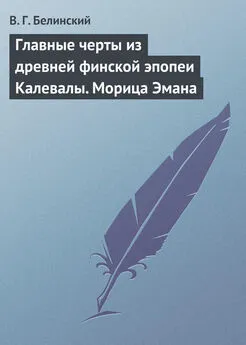

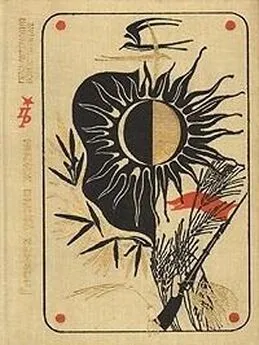
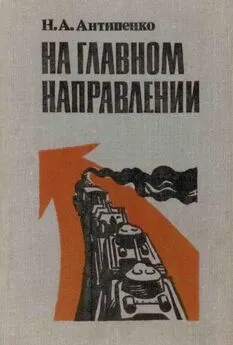
![Иван Падерин - На главном направлении [Повести и очерки]](/books/1086197/ivan-paderin-na-glavnom-napravlenii-povesti-i-oche.webp)