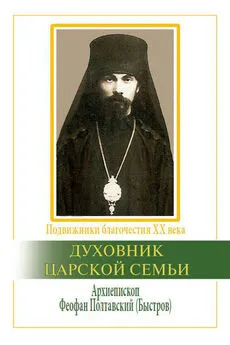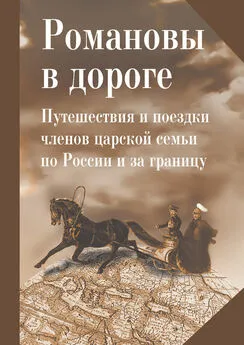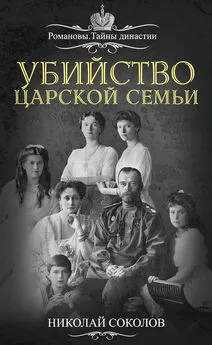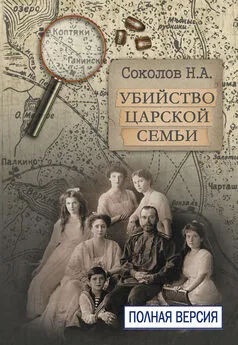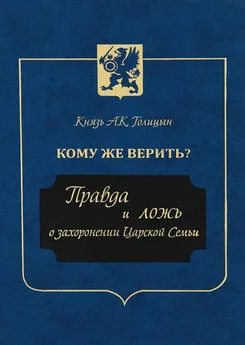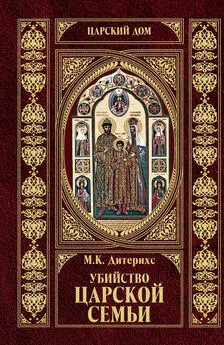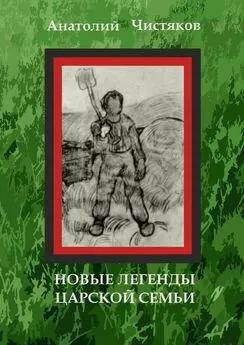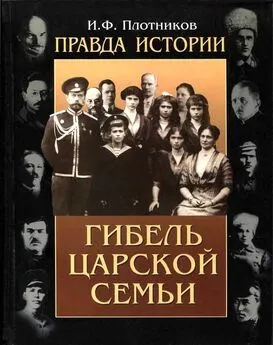Ричард Бэттс - Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, Новый Затворник (1873–1940)
- Название:Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, Новый Затворник (1873–1940)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Бэттс - Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, Новый Затворник (1873–1940) краткое содержание
Сколько мук претерпела Россия в XX веке, но и сколько милости Божией видела в явленных в ней новых подвижниках, мучениках и исповедниках!
Одним из великих светильников Православной Церкви и одним из величайших ученых-богословов своего времени стал Архиепископ Феофан (Быстров).
Он был духовником Помазанника Божия Государя Императора Николая II Александровича и всей его Семьи. Святитель Феофан был «совестью Царя», гласом и хранителем православных заповедей и традиций.
Ректор Санкт-Петербургской Духовной академии, он стал защитником Креста Господня, то есть православного учения о догмате Искупления, от крестоборческой ереси, благословленной Зарубежным Синодом, он послужил Святому Православию и критикой софианства.
Прозорливец и пророк, целитель душ и телес – смиреннейший из людей, гонимый миром при жизни, он окончил ее затворником в пещерах во Франции. Почитатель и наследник святителя Феофана Затворника, святитель Феофан Новый Затворник сам стяжал Дух Святой.
Житие его, его подвиги и труды да послужат поддержкой верным в наши лютые времена, да будут они во славу Божию и во славу верных в Боге.
Духовник царской семьи. Архиепископ Феофан Полтавский, Новый Затворник (1873–1940) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Он всех удивлял и поражал своими знаниями, ничего общего не имевшими с его профессорской специальностью, как, например, в высшей математике или в астрономии. Что касается своей специальности, то масштаб его знаний можно понять из следующего примера. Один путешественник, посетивший с научной целью древнейшую христианскую страну Абиссинию, по возвращении в Россию хотел поделиться своими впечатлениями и научными сведениями с профессором Болотовым. Профессор, как глубоко религиозный и церковный человек, регулярно бывал на богослужениях в храме. Об этом узнал путешественник и поджидал его в воскресный день у храма. Когда профессор вышел, востоковед представился ему и сообщил, что он недавно прибыл из путешествия, и начал ему рассказывать о том, что видел. Но оказалось, что профессор знает обо всем этом несравнимо больше, чем сам путешественник. Он знал, где и какие памятники находятся, памятники археологические на камнях, пергаменте, папирусе и прочие писчие материалы древности. Профессор знал обо всех сведениях, которые они сообщали, даже в дохристианское время. Он знал самые языки, на которых сделаны надписи, языки давно исчезнувшие, и многие из этих надписей он цитировал по памяти.
Профессор сам говорил обо всем том, на что путешественник смотрел как бы слепыми глазами и не видел, что эти немые свидетели сообщали из далекой древности, потому что не знал тех языков, на которых эти надписи сделаны. Профессор все говорил и говорил, не умолкая, как бы читая по книге. Сам путешественник признавался позже владыке Феофану: «Я просто онемел от удивления и очарования. Ведь профессор Болотов никогда не бывал в Абиссинии, а знал в таких археологических подробностях все тамошние памятники. Подумайте только о том, что он цитировал мне многие надписи и сопровождал все это такими историческими пояснениями, что далекая, отстоящая от нас на тысячи лет картина событий оживала с поразительною реальностью, как бы в пересказе очевидца… Я быстро превратился только в благодарного и восторженного слушателя. Мне было страшно неудобно, что я такому человеку хотел рассказывать что-то новое, чего он не знал. Профессор Болотов оказался как бы жителем тех мест и тех далеких времен, а я пытался ему сообщить что-то новое об Абиссинии из моих мимолетных скудных впечатлений. Он знал все в таких мельчайших подробностях, о которых я и понятия не имел… Мне пришлось во всем откровенно признаться профессору и просить его извинить меня».
Профессор Василий Васильевич Болотов происходил из простонародья. Он был сыном сельского псаломщика, родился 1 января 1854 года. С детских лет проявил недюжинные способности в учении и этим обратил на себя всеобщее внимание. Так, он окончил с отличием духовное училище и семинарию. Будучи учеником семинарии, он настолько хорошо знал древнегреческий язык, что составил канон на этом языке святому Василию Великому, имя которого носил. Случайно попавшая ему в руки грамматика абиссинского языка, выданная ему по ошибке вместо еврейской грамматики, привела к тому, что он изучил абиссинский язык. По отзывам учителей семинарии, Василий Болотов занимал в классе место «выше первого», и настолько выше первого, что надо было пропустить за ним сорок номеров, чтобы поставить следующего ученика («Светлой памяти профессора В.В. Болотова». В. Преображенский. Рига, 1928, с. 1).
Поступив в Санкт-Петербургскую Духовную академию, он также сразу привлек к себе особое внимание Совета профессоров академии. Когда профессор по кафедре древней истории Церкви скончался, то Совет академии вынес решение не занимать освободившуюся кафедру до окончания курса студентом В.В. Болотовым, – настолько этот студент высоко поставил себя в научном отношении. Решение это было вынесено в 1878 году, а в 1879 году, всего лишь через несколько месяцев после окончания курса, он блестяще защитил магистерскую диссертацию по древней истории Церкви и занял профессорскую кафедру Тема защиты была: «Учение Оригена о Святой Троице». Эта тема требовала многосторонних и глубоких познаний как в богословии, так и в философии. Рецензент, профессор И.Е. Троицкий, отзывался об этом сочинении как о заслуживающем трех докторских степеней («Светлой памяти профессора В.В. Болотова,» с. 2). За многочисленные последующие труды в этой области он был удостоен научной степени доктора церковной истории.
При его знании многих языков, он был членом различных комиссий: по вопросу о старокатоликах, о присоединении халдеев-сирийцев к Православию и проч. Наконец, он был членом государственной Астрономической комиссии. Перед этой Комиссией ставился вопрос о возможностях реформы календаря. Но когда профессор Болотов прочел свой доклад, с привлечением массы научного материала – астрономического, математического, археологического, коснулся и древних календарей, вавилонского и других, – Комиссия вынесла решение, что вопрос о реформе календаря научно необоснован.
Все это и многое другое говорил о Василии Васильевиче Болотове архиепископ Феофан.
Этот одаренный профессор с особым теплом относился к юному студенту Василию Димитриевичу Быстрову. Так, однажды во время экзаменационной сессии профессор Болотов вошел в аудиторию, в которой шел экзамен по одному из важных предметов академического курса. Но в экзаменационной комиссии профессор не участвовал. В то время как студенты томительно ожидали своей очереди, чтобы сдать экзамен, Василий Васильевич неожиданно сел рядом со студентом В.Д. Быстровым. Вполне естественно, студент был смущен этим. Но профессор своим простым и подчеркнуто дружественным отношением к студенту преодолел это смущение и не как профессор, а как товарищ начал расспрашивать Василия Димитриевича:
– Наверное, устали? Я ведь по себе знаю, что экзаменационная сессия очень утомляет, отнимает много сил. Но Вы же, как всегда, подготовились?
– Да, я усиленно работал. Но знаю ли я предмет, об этом я не могу судить, об этом скажет уж экзаменационная комиссия.
– Не сомневаюсь в Вашей подготовке. Но это ожидание отнимает много сил.
«И как-то незаметно профессор начал интересоваться моей подготовкой к экзамену, – вспоминал позже Владыка. – Однако его вопросы не были по форме вопросами профессора к студенту. Нет, по тону это были вопросы из беседы двух студентов, но разных курсов, старшего и младшего. Он спрашивал, но как бы желая убедить меня в моем знании. Профессор ни разу не показал своего превосходства в знаниях. С его стороны это был вполне коллегиальный, дружественный и даже дружеский разговор. Однако эта беседа затронула круг вопросов несравнимо шире академического курса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: