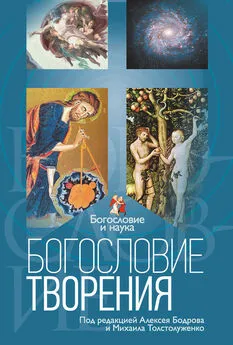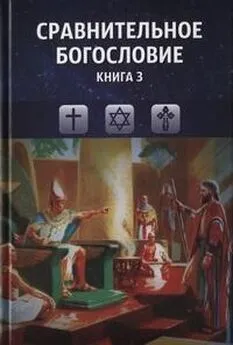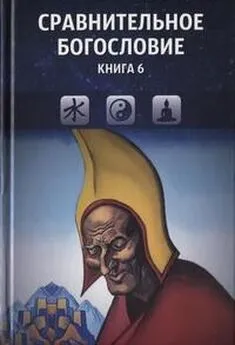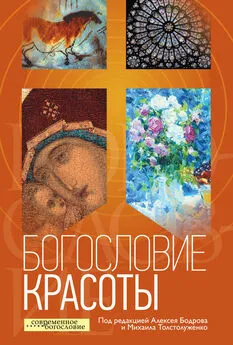Коллектив авторов - Богословие творения
- Название:Богословие творения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ББИ»bb9e3255-c253-11e4-a494-0025905a0812
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89647-300-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Богословие творения краткое содержание
Цель сборника – прояснение возможных точек зрения на начало и конец вселенной, а также поиск принципов соотнесения научного и богословского подходов. В этой связи рассматривается антропологическая и этическая проблематика: в какой мере современное представление о человеке, мораль могут быть соотнесены с идеей творения и эсхатологической перспективой? Не являются ли принципы этого соотнесения общими для науки, антропологии и этики? Помимо работ ведущих современных богословов в сборник включены избранные доклады с международной конференции «Богословие творения», организованной совместно ББИ и проектом STOQ (Рим) при поддержке Папского совета по культуре 13–17 октября 2010 г. в Звенигороде.
Богословие творения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, естествознание, или, конкретнее, генетика приводит к выводу, что, хотя человечество, возможно, возникло в «одном месте», размеры этого места лишь предположительно ограничиваются относительно небольшой территорией (скажем, Восточной Африкой), а могут включать и (почти) весь Старый Свет [323]. Размер мог быть небольшим, но лишь относительно небольшим – возможно, несколько тысяч по меньшей мере; но точно не одна пара.
К тому же не существует научных данных, подтверждающих внезапное появление человека; более того, коль скоро человечество характеризуется скоплением генотипических, фенотипических или культурно-поведенческих черт, существуют теоретически обоснованные основания против этого предположения.
Таким образом, на основании научных данных кажется маловероятным, что существовала единая исходная пара, которая одна возникла из биологически существовавшей до человека популяции и стала затем предком всех последующих людей. Современная наука полагает, что происхождение человека было не моногенетическим, а полигенетическим.
IV. Разрешение
Два разных способа знания, один из которых основывается на данных наблюдения, а другой на данных откровения, казалось бы, ведут, как я и сказал в самом начале, к противоречивым заключениям: одно – в защиту полигенетической, а второе – в защиту моногенетической теории происхождения человека. Какие возможные варианты есть у христианина, если он серьезно относится к науке, но не хочет нарушить знаменитое предписание блаженного Августина [324]:
Ведь нередко бывает, что и нехристианин немало знает о земле, небе и остальных элементах видимого мира… притом знает так, что может защитить эти знания и очевиднейшими доводами, и жизненным опытом… В самом деле, когда они [нехристиане] замечают, что кто-либо из христиан заблуждается относительно хорошо им известных предметов и утверждает свое нелепое мнение, ссылаясь на наши писания, то как же они поверят этим писаниям относительно воскресения мертвых, надежды на вечную жизнь и царство небесное, коль скоро у них сложилось представление, что писания эти лгут даже в тех вопросах, которые легко можно проверить или на опыте, или при помощи цифр?
В последние годы некоторые богословы выступают за не-моногенетическое прочтение Книги Бытия и (независимо от этого) за пересмотр учения о первородном грехе. Эти взгляды возникли по причинам не полностью, а иногда и вовсе не связанным со стремлением примирить богословские доктрины с современными научными открытиями.
По справедливому замечанию этих ученых, при толковании Книги Бытия необходимо принимать во внимание литературный жанр рассматриваемого текста. Поскольку Быт 2 не является современным историческим или научным трактатом, говорят они, было бы неверно видеть в нем изложение каких-либо исторических фактов и a fortiori факта существования первой пары людей, общих прародителей. В Быт 2 выделяется несколько тем: отношение человека к Богу (творения к Творцу), единство происхождения человека и отношения мужчины и женщины. Примечательно, что лишь когда речь идет о последней из этих тем, в тексте дается особенное толкование слов מדא и הוח, ’ ādām (адам) и havāh (ева), которые иначе можно читать как «человек» и «источник жизни».
Из всех этих тем наибольшее отношение к рассматриваемой нами проблеме имеет единство человечества, и по ряду причин историческое существование первого человека может не быть необходимым для этого утверждения.
Во-первых, хотя автор, безусловно, хочет донести мысль об изначальном единстве человечества, то, каким образом он это излагает, определяется не историческими деталями ( wie es eigentlich gewesen war ), а способом выражения, наиболее понятным для его аудитории. В этой связи Карл Ранер подчеркивает «тенденцию восточного типа сознания мыслить в конкретных и личностных категориях и видеть основу каждой социологической общности в едином правителе или предке» [325].
Сам факт единства можно определять по-разному, и происхождение от общей группы предков − не самое убедительное объяснение этого единства. Единство биологического вида естественнее всего объяснять общностью генофонда. Особый акцент на человечность рассматриваемого в данном случае вида скорее укажет на такие социальные факторы, как культура и язык, которые играют в этом решающую роль, а они могут существовать только в человеческой среде. Наконец, единство цели (в случае человека это направленность к Богу) − лучший кандидат в источники единства, чем единство биологического происхождения.
Во-вторых, рассказ об изгнании Каина (Быт 4:14–17) предполагает существование в мире других людей, при этом об их происхождении ничего не говорится. Эта непоследовательность может служить подтверждением того факта, что цель протоистории в Быт 1-11 состоит не в том, чтобы создать позитивистское историческое повествование, а в том, чтобы изложить mythos – историю, в которой, по выражению Эдварда Ярнолда, «некая истина, слишком глубокая для прямого выражения, формулируется в символах» [326].
Критика традиционного понимания доктрины первородного греха в значительной мере основывается на иных соображениях, которые можно различить в соответствии с тремя вышеупомянутыми ключевыми идеями, которые здесь приводятся с небольшими изменениями в формулировках:
(3.1) peccatum originale originatum понимается как наследственная вина за peccatum originale originans,
(4.1) peccatum originale originans представлял собой единичный акт,
(5.1) peccatum originale originatum распространился путем биологического наследования.
Некоторые ревизионисты возражают против самой идеи peccatum originale originans . Они выдвигают два возражения против этого тезиса.
Во-первых, они говорят, что идея о первородной праведности маловероятна или по крайней мере неточна. Некоторые критики утверждают, что такое понятие несовместимо с наукой [327](к этому моменту я вернусь позже). Другие доказывают, что эта идея не соответствует их антропологии. Даффи выдвигает возражение, говоря что «трудно представить себе мир, созданный для развития и становления свободы, где зло не являлось бы структурным компонентом» [328]. Это, конечно, вступает в противоречие с определенными фрагментами в Быт 2–4. «Райский сад – мечта, а не воспоминание», – отвечает Даффи [329].
Во-вторых, они возражают против самой идеи о том, что можно наследовать вину за грехи своих предков.
Вследствие такого рода пересмотра традиционных идей ставится под сомнение сам термин «первородный» грех [330]. Отказ от идеи об исторически реальном peccatum originale originans был уже предложен ранее в учении протестанского богослова Рейнольда Нибура, чьи идеи его ученик Лэнгдон Джилки кратко изложил следующим образом [331]:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: