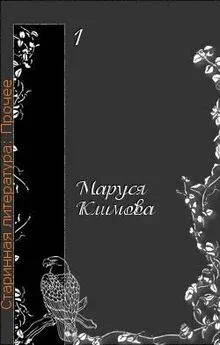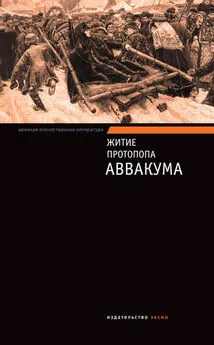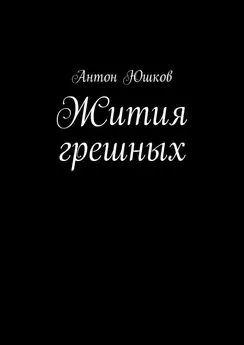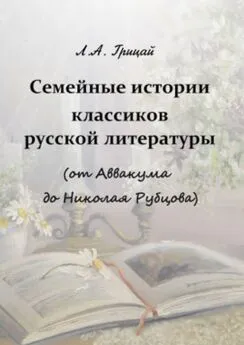Маргарита Климова - От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: жития «грешных святых» в русской литературе
- Название:От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: жития «грешных святых» в русской литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-101-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Климова - От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: жития «грешных святых» в русской литературе краткое содержание
Монография посвящена влиянию житийной традиции на произведения русской классической литературы, рассмотренной во временном диапазоне от Жития протопопа Аввакума до произведений Ф. А. Абрамова. Обширный мир православной агиографии представлен в исследовании житиями «грешных святых», пришедших к святости из бездны нравственного падения, в том числе не только канонизированных церковью, но и персонажей «народной агиографии». В книге рассматриваются некоторые художественные обработки таких житий русскими писателями, случаи использования различных приемов житийного повествования светской литературой, а также «литературные жития» святых из народа, созданные писательским воображением. С этой целью привлекаются произведения А. И. Герцена, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, А. И. Куприна, И. А. Бунина, М. Горького и других признанных мастеров отечественной словесности. Многие из этих произведений анализируются в предложенном аспекте впервые.
От протопопа Аввакума до Федора Абрамова: жития «грешных святых» в русской литературе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следует сразу же сказать, что сложная агиографическая конструкция, созданная Симеоном Метафрастом, была столь насыщена элементами различных житийных моделей, что не могла сохраниться в неприкосновенности при последующих переработках. Интересно отметить, что в современной электронной версии Жития преподобной Феодоры [108]не только редуцирован до почти полного исчезновения его романный сюжет, но также исключены перипетии духовной брани героини с дьяволом и почти все ее чудеса. Существенные изменения претерпел этот житийный рассказ и под пером А. И. Герцена.
Известно, что повесть «Легенда» явилась плодом восхищенного знакомства молодого писателя с агиографическим сводом Димитрия Ростовского. Это знакомство состоялось при особых обстоятельствах: Четьи Минеи Герцен читает под арестом в Крутицких казармах в ожидании приговора. Арест, тюремное заключение или каторга – экстраординарные события, своей катастрофичностью вырывающие человека из суеты повседневности и настраивающая его на мысли о прожитой им жизни. Такая ситуация нередко приводила русского человека к покаянию и пересмотру жизненных ориентиров. В разное время такую душевную метаморфозу пережили заточенный в одиночную камеру В. К. Кюхельбекер, каторжанин Ф. М. Достоевский, одна из жертв «красного террора» в Крыму поэтесса А. К. Герцык, узники ГУЛАГа А. И. Солженицын и Е. С. Гинзбург. Не стал исключением и А. И. Герцен, именно в тюрьме и в вятской ссылке переживший кульминационный момент увлечения идеализмом. Уроки христианского вероучения падали на благодарную почву. Неведомый доселе мир агиографии поразил молодого писателя силой и напряженностью духовных устремлений, что резко контрастировало с пошлой обыденностью окружающей его современности. Своим восхищением («Вот где божественные примеры самоотвержения, вот были люди!») Герцен делится с невестой Н. А. Захарьиной, человеком глубоко и искренне верующим. Ей он и посвятит свою повесть, прибавив к старинному сюжету, как писал он сам, «новый опыт своей души» и желая показать, «как самую чистую душу увлекает жизнь пошлая».
«Легенда» состоит из семи глав. Первая, вводная глава повести, подчеркнуто автобиографичная, обозначает романтическое противостояние двух миров: мира пошлой повседневности и несвободы, особенно остро ощущаемой повествователем-арестантом, и мира высокой духовности и самоотвержения, открывающегося ему на страницах старинного Жития. Но восхитивший молодого литератора сюжет весьма смело трансформируется им. Из шести «александрийских» глав «Легенды» лишь четыре (двучастная вторая, пятая, шестая и седьмая) могут быть сопоставлены с исходным агиографическим текстом. Как и Житие, созданное Симеоном Метафрастом, герценовская легенда имеет двух главных персонажей. В обоих случая первый из них – переодетая мужчиной кающаяся грешница. Но главное действующее лицо романного сюжета Жития – муж Феодоры, в герценовской обработке отступает на второй план. После развернутого описания его встречи с неузнанной им супругой, муж Феодоры исчезает из действия, чтобы появиться вновь лишь в самом конце, рыдающим над мертвым телом любимой (его дальнейшая судьба, равно как и судьба приемного сына Феодоры в повести никак не обозначены). Второе главное действующее лицо «Легенды» – игумен Октодекатского монастыря, едва упомянутый в исходном житийном тексте. Этот безыменный игумен наделен автобиографическими чертами еще в большей степени, нежели оскверненная соприкосновением с пошлостью жизни юная женщина (так трактует Герцен эпизод грехопадения Феодоры). С этим персонажем молодой писатель щедро делится обретенным им духовным опытом, именно ему доверяет свои заветные мысли о сущности христианства и его месте в современной жизни (изложение этих мыслей составляет главное содержание четвертой, центральной главы повести). Отношения игумена с «иноком Феодором», своим другом и единомышленником, о сокровенной тайне которого он и не подозревает, определяют подлинное движение сюжета «Легенды». Эта линия действия почти целиком домыслена светским автором.
Если духовный мир игумена очерчен вполне определенно, хотя и с романтической экзальтацией, то о внутренней жизни его «собеседника» в «Легенде» говорится лишь интригующими полунамеками. Симеон Метафраст прямо сообщал о переодевании Феодоры, отчего ее история лишь выигрывала в драматизме. Читателям «Легенды», напротив, предоставляется возможность самим догадаться, кто скрывается под обличием «инока Феодора». Не менее интригующе обрывает Герцен эпизод объяснения «Феодора» с влюбленной в него дочерью енатского игумена. Такая таинственность, вероятно, покажется, наивной современному читателю, тем более, что в уже упоминавшуюся центральную главу повести писатель вставил в виде подсказки богословский спор собеседников о природе женщины. Любопытно отметить, что и женофобия игумена, и осторожное заступничество за «дочерей Евы» «Феодора» подкрепляются аргументами одного и того же церковного авторитета – Иисуса Сирахова, словами которого, как уже говорилось, начинает свой рассказ о жизни Феодоры Метафраст.
Повесть «Легенда» – одна из первых встреч русских писателей Нового времени с миром православной агиографии [109]. Хотя текст ее обнаруживает несомненное внимание автора к первоисточнику, цитатами из которого завершаются шестая и седьмая главы, используемый писателем материал был слишком экзотичен для него. Гораздо увереннее чувствует себя А. И. Герцен в мире западноевропейской культуры. Тени двух ее гениальных представителей – И. В. Гете и Данте – проходят по страницам повести. Отсылкой к авторитету Гете оправдывает русский писатель свое внимание к старинному Житию. Одним из эпиграфов первой главы «Легенды» служит цитата из «Чистилища». Вдохновенная речь игумена в четвертой главе также сопровождается анахроничной авторской отсылкой к мысли великого флорентийца. Наконец, именно из первой песни «Божественной комедии» примчался на страницы повести «барс, lonza lеggiera», зверь весьма экзотичный для египетской пустыни, но отнюдь не случайный для тайного смысла переживаний видящего его «Феодора» [110]. Местами романтический текст Герцена напоминает собой искусный перевод некоего несуществующего западного оригинала. Сам молодой писатель отнесся к своему литературному опыту весьма критично, оставив попытки переработать повесть и не пытаясь ее опубликовать (ему, впрочем, польстило, что друзья пустили рукопись «Легенды» по Москве). Напечатана повесть была лишь в 1881 г., уже после смерти ее создателя.
Житие Марии Египетской (1 апреля), положенное в основу незавершенной поэмы И. С. Аксакова, по праву вошло в золотой фонд христианской литературы [111]. Неизвестный византийский агиограф VII в., ошибочно отождествляемый в православной традиции с иерусалимским патриархом Софронием I [112], создал произведение, оставившее глубокий след в христианской культуре и одновременно неповторимое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: