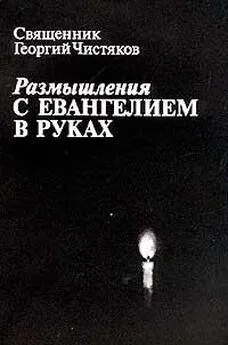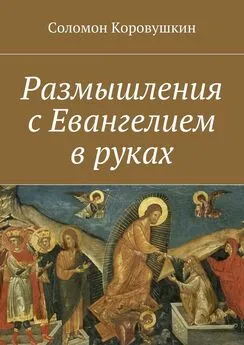Георгий Чистяков - С Евангелием в руках
- Название:С Евангелием в руках
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва-Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-532-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Чистяков - С Евангелием в руках краткое содержание
Настоящее издание продолжает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007), историка, богослова, общественного деятеля; оно включает в себя три сборника статей, подготовленные к изданию самим автором: «Размышления с Евангелием в руках», «На путях к Богу живому» и «В поисках Вечного Града». Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.
С Евангелием в руках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А что думал Борхес именно как писатель о своем читателе? Быть может, он просто издевался над нами, тактичнейший и тишайший Борхес? Андре Моруа писал свои книги о писателях (например, о Бальзаке) для тех, кто без его помощи, быть может, никогда не открыл бы «Человеческую комедию». Другое дело Борхес. Он не пишет ни биографических очерков, ни эссе, которые могли бы помочь понять или полюбить того или иного автора, он, интеллектуал, прочитавший тысячи книг и выучивший Данте, разумеется, в оригинале, на память, просто размышляет вслух над прочитанным. Причем не с профессорской кафедры, что, в общем, было бы естественно, а в присутствии частного лица – собеседника, в котором он видит личность, равную себе во всех отношениях.
Он не «блещет» эрудицией, не пытается поразить, ослепить или обезоружить ею читателя; нет, он просто говорит о том, что кажется ему вполне естественным. А читатель? Что чувствует при этом его читатель? Ответить на этот вопрос было бы очень просто, если бы Борхеса читали только филологи-профессионалы, подобно ему самому глубоко погруженные в тексты цитируемых им писателей. Это, однако, не так. Парадоксально, но сегодня его читают намного больше, чем тех, кого он цитирует – Данте, Сервантеса, Сведенборга или мудрецов Талмуда. И понимают?
Здесь очень хочется сразу и как можно более резко ответить – «нет». И более того – обвинить Борхеса в том, что его манера письма с этими бесконечными (и нередко большими по объему) выписками из самых разных писателей (как правило, известных крайне узкому кругу специалистов) приводит к тому, что его читатель в конце концов вводится автором в заблуждение и начинает считать, что он знает всех этих авторов не хуже, чем сам Борхес. И вообще ему начинает казаться, что он (читатель) всё читал и во всём разбирается. Борхес – обманщик. Борхес – фальсификатор внутреннего мира своих читателей. Борхес – любимый писатель недоучек, что, прочитав три сборника его эссе, сразу начинают видеть в себе невероятных интеллектуалов и представителей той духовной элиты, к которой, без сомнения, помимо Борхеса относятся единицы…
Об этом, действительно, хочется почти кричать, однако всё это не совсем верно. Борхес никого не пытается «совратить», он никогда не проповедует и не навязывает читателю своего мнения. Он просто делится с нами (предельно откровенно!) своим опытом чтения, опытом, возможно, последнего в истории человечества, во всяком случае, на нынешнем ее этапе, читателя книг, который годами не покидал библиотеки. Оставаясь там допоздна не потому, что работал над диссертацией или готовил к печати очередной ученый труд, академический перевод древнего или средневекового автора или комментарий к нему, а просто так – потому что хотел что-то понять и в чем-то разобраться и, главное, – потому что любил до ночи засиживаться над книгой.
Опыт чтения, которым делится с нами Борхес, до предела трагичен. Всем своим существом писатель принадлежит к культуре, которая была не просто рождена христианством, но доныне пропитана не только христианскими ценностями, а именно верой и Евангелием, однако при этом не верит в Бога сам. Ему бесконечно дороги библейские тексты, поэзия святого Хуана и каждая фраза из блаженного Августина, он постоянно думает о Боге, о действии Духа Святого в мире вокруг нас, наконец, о том, что такое жизнь вечная, но упорно и, наверное, честно продолжает называть себя неверующим. Слова Августина о том, как мучится человеческая душа, пока не найдет Бога, вполне применимы к творчеству Борхеса.
Он действительно мучится, но в высшей степени достойно, с болью, но без истерики и без заламывания рук. При своей потрясающей глубине он всегда бесконечно печален. И абсолютно неповторим. Последнее особенно важно: тиражированию духовный и интеллектуальный опыт Хорхе Луиса Борхеса не подлежит. Как вообще опыт всякого, кто продирается к Богу, идя своим собственным, индивидуальным путем, вне братства или общины. Никакой системы и никакой теории он не создал, он только рассказал нам о том, что чувствовал и о чем думал.
Он, неутомимый читатель, к шестидесяти годам (как и его отец) полностью ослеп и поэтому последние двадцать пять лет своей жизни был начисто лишен возможности не только читать, но и писать. В эти годы он продолжал писать стихи, пытался диктовать прозаические тексты, давал интервью. Получалось всё это не так, как ему хотелось, ибо без книги, прочитанной в библиотеке, глазами и в полном молчании, культуры и реальности в целом для него просто не существовало. «Трагичнейшим из поэтов» назвал Аристотель Еврипида. В Новое время эти слова вполне применимы к Борхесу, который, без сомнения, родился поэтом.
Борхес иногда называл себя евреем, хотя формальных оснований у него для этого не было. Однако, зачисленный в евреи в годы нацизма кем-то из ревнителей чистоты арийской расы, он, считавший себя неверующим, сразу почувствовал, что принадлежать к народу Ветхого Завета, из которого вышел «жезл от корене Иессеова и цвет от него» (Ис 11: 1) по имени Иисус – самая большая из привилегий, которая сегодня может быть предоставлена человеку.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1999. № 4288 (14–20 октября). С. 13. (под заголовком «Человек из библиотеки»).Трудный диалог продолжается
Студент из Германии Габриэль Бунге начинал как специалист по библеистике и древней истории. В начале 1960-х годов после путешествия по Греции он открыл для себя восточное монашество и понял, что должен полностью посвятить себя именно тому пути, по которому прошли когда-то авва Евагрий, Иоанн Лествичник и другие подвижники. Католик по крещению, он становится монахом-бенедиктинцем, а в 1980 году как отшельник поселяется в Швейцарских Альпах, в горах над Лугано, где живет и ныне по строгому древнемонашескому уставу.
Для своей келейной молитвы он пользуется греческим молитвословом, а литургию (ее отец Бунге совершает ежедневно) служит по чину Амвросия Медиоланского, – святого, благодаря усилиям которого в Медиолане и в окрестных городах (в их число входит и Лугано), по словам блаженного Августина, «было установлено петь гимны и псалмы по обычаю восточных областей». Влюбленный в православие, но при этом оставшийся верным Римско-Католической Церкви, в которой он был крещен и воспитан, отец Бунге открывает в недрах ее истории и ее традициях глубочайшее родство с христианским Востоком и его аскетической практикой.
Как подчеркнул во введении к русскому переводу книги Бунге «Скудельные сосуды» (на русском языке она вышла в Риге в 1999 году благодаря усилиям Наталии Большаковой) ее переводчик отец Владимир Зелинский, «он остается католиком, следуя уставу преподобного Бенедикта, но “жительствуя”, молясь и веруя при этом подлинно православно. И внешним “иконным” обликом, и духовным складом он напоминает одного из тех древних (почти забытых у нас) латинских монахов, имена которых можно во множестве найти и в наших святцах».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: