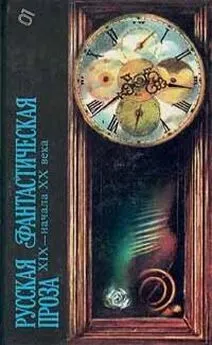Константин Антонов - Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века
- Название:Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ПСТГУ»
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7429-0415-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Антонов - Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века краткое содержание
Книга адресована философам, богословам, религиоведам, историкам русской философии и культуры, всем, интересующимся вопросами философского осмысления религии.
Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Философия религии и религиозная философия в русской мысли
Философская актуальность данного исследования определяется вкладом, внесенным в изучение религии русской метафизической мыслью. На протяжении XIX–XX вв. эта мысль представила значительное многообразие направлений и концепций, в рамках которых весьма тщательному анализу были подвергнуты как основные религиозные понятия и идеи (вера, откровение, догмат, культ, теократия и т. д.), так и основные проблемы философии религии (определение религии, бытие Божие и его доказательства, проблема веры и разума, религии, философии и науки, гносеологическое значение религиозного опыта, история религии, ее ход и общие закономерности, религиозная традиция как поток жизни и как совокупность определенных структур, место религии в обществе и истории человечества, соотношение религиозного и атеистического сознания и др.).
Все сказанное в свою очередь задает и ряд существенных особенностей развиваемого ниже подхода к теме, определивших, в частности, круг релевантных источников и применявшиеся в работе способы их анализа. Остановлюсь кратко на основных из этих особенностей.
Во-первых , мне представляется, что одним из существенных препятствий для должной оценки указанного вклада была до сих пор весьма распространенная характеристика русской философии как «религиозной».
Как ни странно, рассматривая русскую философию как «религиозную», исследователи до сих пор почти не уделяли систематического внимания содержащимся в ней элементам философии религии.
Причина этого, на мой взгляд, заключается в том, что термин «русская религиозная философия» в настоящее время постепенно превращается в штамп. Некоторое предметное значение он может получить, как было показано выше, только в контексте рассмотрения целостной системы рефлексивных структур, осуществляющих легитимацию религиозной традиции. К сожалению, в настоящее время многие историки русской мысли, используя термин «религиозная философия», изменяют и превращают в мнимые достоинства ее мнимые недостатки: недостаток рациональности, строгости, т. е., в конечном счете, философичности. Считается, что религиозный философ может позволить себе то, чего не может обычный, что он – «больше, чем философ» [25] См.: Шохин В.К . Образ философа и философии в России и Индии: параллели и контрасты // Историко-философский ежегодник, 2003. М., 2004. С. 377–382. Автор, однако, совершенно произвольно ограничивает сферу значимой русской философии исключительно «профессиональной» академической и университетской средой, априорно отрицая наличие философского содержания у любых позиций, отклоняющихся от канона «классического философского рационализма». Во многом аналогичное, хотя и более конструктивное противопоставление европейской философии и русской «теософии» (см.: Ахутин А.В . София и черт. Кант перед лицом русской религиозной метафизики // Ахутин А.В . Поворотные времена. СПб., 2005. С. 449–480). Моя цель, в данном случае, прямо противоположна: посмотреть на русскую мысль именно как на философию, показать наличие в ней философского содержания, раскрыв в сфере философии религии те философские (а не религиозно-психологические) основания, по которым указаный канон был подвергнут в русской философии радикальному пересмотру.
. Весьма распространены, к примеру, указания на присущие религиозной философии пафос и особую метафоричность ее языка. Для одних это минус, для других плюс, но и те, и другие избавляют себя этим указанием от работы исследователя: выяснения того, обоснован или не обоснован этот пафос философским анализом и присутствует ли в этих метафорах значимое философское содержание?
Здесь, однако, возникает справедливый вопрос: остается ли такая мысль философской мыслью? Мне представляется, что русская мысль обладает достаточным философским содержанием для того, чтобы рассматривать ее, не делая скидок на ее пресловутую «религиозность».
С точки зрения темы моего исследования это расхожее понимание имеет еще и тот недостаток, что предрасполагает исследователя рассматривать русскую мысль скорее как выражение определенных религиозных идей и интуиций (православных, гностических, атеистических, масонских и т. п.), чем как их рефлексирующее исследование . В первом случае почти неизбежно возникает потребность дать общую религиозную или специальную богословскую оценку соответствующих построений, что влечет за собой известный и весьма распространенный в отношении русской философии культурный нигилизм. При этом вопрос о соотношении философских учений и догматики ставится как само собой разумеющийся. Однако таким образом упускается из виду предварительный вопрос о самой возможности такого сопоставления двух интеллектуальных дисциплин с различными источниками, критериями рациональности, истинности и обоснованности. Лишь при втором подходе мерилом оценки становится прежде всего вклад той или иной концепции в общее становление философской мысли, что позволяет сосредоточиться главным образом на ее достижениях, а также продумать более основательно вопрос о соотношении философии и теологии, и в частности проблему богословской ответственности философа.
Потребность в формировании более ясного представления об указанном выше вкладе ощущается как в рамках истории русской философии, так и в рамках философии религии. В самом деле, определяя русскую философию как «религиозную», мы волей или неволей приходим к тому, чтобы задаться вопросом о том, как же она, собственно, понимает религию. И действительно, легко заметить, что те или иные аспекты проблематики философии религии так или иначе затрагиваются в целом ряде исследований: как тех, что посвящены тем или иным конкретным мыслителям, так и обобщающих [26]. Тем не менее, работы, в которой эти аспекты сводились бы воедино, до сих пор не появлялось. В то же время столь видный исследователь проблем философии религии, как уже упоминавшийся Ю. А. Кимелев, в свою очередь указывал на «потребность в… обобщающих работах, посвященных истории западной философии религии, а также русской религиозной философии». Сам автор далее поясняет, что речь идет для него о наличии в русской мысли «философии религии европейского типа» [27]. Именно она (разумеется, с учетом присущей русской мысли оригинальности) и станет основным предметом рассмотрения в данной работе [28].
Во-вторых, не отрицая глубокой оригинальности русской философии, я полагаю все же, что это оригинальность вида в рамках рода, каковым выступает в данном случае европейская философская традиция. Оригинальность эта определяется религиозным (отличие православия от западных вариантов христианства) и культурным (сложными наслоениями византийских, западных и восточных элементов на славянский субстрат) своеобразием России, как некоторой данностью – исходной точкой – субстратом и одновременно предметом философского размышления. Насколько это размышление было адекватно своему предмету – другой, требующий отдельного рассмотрения вопрос. Неслучайно, тем не менее, что русская философия в общем смысле, как «философия в России» (так же как и русская литература, живопись, музыка и т. д.), возникает только «после Петра», тогда, когда русская мысль, подобно всей «высокой» русской культуре принимает европейские нормы и ценности в качестве образцовых. Однако ее отличие от других сфер русской культуры состоит в том, что подлинное ее начало как именно «русской философии» следует отсчитывать с того момента, с которого она сделала это событие предметом рефлексии. Однако и здесь она не вышла, по существу, за пределы философии европейского типа, прежде всего в силу того что в древнерусской культуре самостоятельной философской традиции (я говорю об эксплицитном философствовании, а не о так или иначе выраженных мировоззренческих интуициях) не возникло, и позднейшие русские философы (данный факт отнюдь не умаляет их оригинальности) в поисках образцов вынуждены были, так или иначе, обращаться ко все той же европейской традиции. Это касается и философии религии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: