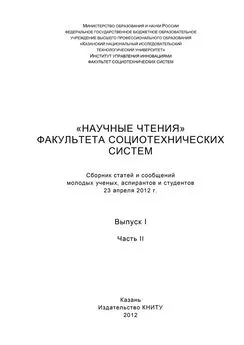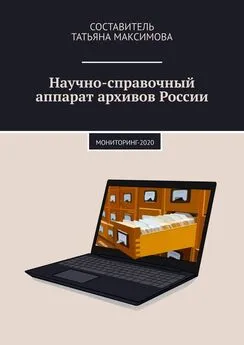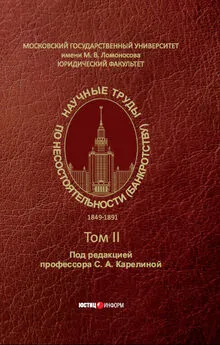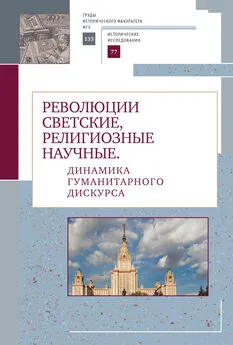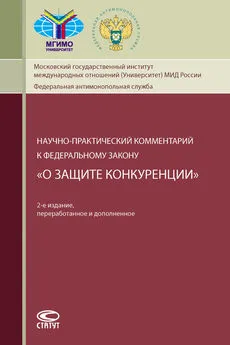Коллектив авторов - Научные и богословские эпистемологические парадигмы. Историческая динамика и универсальные основания
- Название:Научные и богословские эпистемологические парадигмы. Историческая динамика и универсальные основания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ББИ»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:5-89647-130-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Научные и богословские эпистемологические парадигмы. Историческая динамика и универсальные основания краткое содержание
Научные и богословские эпистемологические парадигмы. Историческая динамика и универсальные основания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кризис в науке также виден и в спекулятивных областях познания, таких как, например, космология. Космология, хоть и не имеет прямого отношения к процессам жизнедеятельности здесь и сейчас, влияет, через свои научно-популярные формы (т. е. как научная идеология), на массовое сознание. С одной стороны, физическая космология претендует на то, что она дает представление о процессах в ранней вселенной, из которой произошло все многообразие наблюдаемых форм вещества. С другой стороны, оказывается, что физика в лучшем случае отдает себе отчет только о пяти процентах вещества во вселенной. Остальные девяносто пять процентов вещества, предсказываемые физикой (так называемые скрытая масса и скрытая энергия), тем не менее не поддаются описанию с ее помощью. Это свидетельствует о том, что, чем дальше теория и практика космологических наблюдений продвигается в освоении вселенной, тем больше становятся осознанными пределы и границы науки вообще. Недаром говорят, что космология является испытательным полигоном физики, где устанавливаются ее пределы.
Самое удивительное то, что, несмотря на всю эту очевидную ограниченность научного метода и его внутреннюю замкнутость на определенный тип явлений во вселенной, космологи иногда выступают как пророки и «священники» вселенной, проповедуя о ней в сакральных терминах, подразумевая, что они знают все и что никаких ссылок на потустороннее основание мира в Боге и не требуется. Однако элементарный философский анализ многих положений космологии показывает, что подобный оптимизм и самоуверенность в провозглашении конечных истин о вселенной являются не более чем наивным высокомерием и принижением других модальностей человеческого духа в раскрытии связи во вселенной.
Современной науке присущ новый виток радикальной математизации природы. Это в особенности касается фундаментальных разделов физики, где теория глаголет о сущностях, не доступных наблюдению в прямых экспериментах. Здесь происходит онтологическое смещение представлений: ненаблюдаемые сущности объявляются более фундаментальными как ответственные на глубинном уровне за случайную видимость природы. Математизация природы исходит из абстракции неперсонального и анонимного разума, как бы существующего вне конкретики ипостасных существ, а наличие личностей во вселенной не может получить своего объяснения и истолкования в математизированной картине мира. В связи с этим становится понятным, что и проблема диалога науки и религии при таком взгляде на науку оказывается неким упражнением деперсонализованного сознания по «сравнению» научных представлений с положениями религиозного мировоззрения, или богословия, оторванным от конкретики личного опыта существования. Легко почувствовать, что такой диалог не понимает основания своей фактичности, как происходящей из глубин духовной жизни конкретных воплощенных личностей. Можно обобщить, сказав, что кризис науки носит экзистенциальный характер. Будучи движима порывами абстрактного либо утилитарно-прикладного характера, наука забывает о человеке как конечном основании ее собственной сущности. Наличие такого кризиса делает сомнительной возможность конструктивного диалога с богословием.
Не следует однако полагать, что проблематичность соотношения богословия и науки связана только с кризисом научного познания. Следует обратиться к истории богословия, чтобы осознать и его проблемы. Известно, что Православное богословие никогда не было активно вовлечено в дискуссии с наукой, поскольку исходило из того, что наука как вид человеческой деятельности, то есть как конкретная реализация жизненных событий, никогда не могла противоречить факту существования личностей как центров бытия, из которых возможно раскрытие смысла вселенной. Богословие всегда выполняло критическую функцию по отношению ко всем формам мышления, включая и научное. В этом смысле оно всегда ставило под вопрос все претензии научного познания на объективность и нейтральность суждений, его независимость от скрытых верований, обусловленных самим фактом человеческого существования и невозможностью его объяснения в дискурсивных, логических категориях. Православное богословие никогда не боялось научного прогресса и его воплощения в технике просто потому, что достижения науки не могли ставить под сомнение тайну воплощенной человеческой субъективности, то есть тайну ипостасных человеческих существ, тайну, которая и составляла главную заботу богословия. Даже в тех случаях, когда прельщенный разум отваживался провозгласить свое собственное появление из некого предсуществующего и безличного вещества вселенной, богословие добродушно снисходило до этой слабости рассудка в его мудром видении истинного источника всех вещей во вселенной (артикулированных в событиях личности), то есть событиях ипостасного существования, тех событиях, чье трансцендентное основание (произведенное волеизлеянием Бога-творца, Отца всего человечества, его конечным архетипом, его началом и концом) невыразимо и непроясняемо наукой. Именно поэтому не случайно, что Православное богословие называют «жизненным (экзистенциальным) богословием»: в нем приоритет отдается конкретному личностному существованию, выраженному через переживание интенсивности и непосредственности данного момента, как онтологическому основанию всех других аспектов реальности. Это экзистенциальное измерение Православного богословия восходит к ранней греческой Патристике, интерес к которой растет в наши дни.
Однако этот идеал богословия по ряду причин был нереализуем. Согласно оценке о. Г. Флоровского, сделанной в первой половине XX века, именно забвение экзистенциального измерения богословия привело к его кризису, главными признаками которого были разделение между абстрактным богословствованием и литургией, потеря ощущения верности святоотеческому преданию (традиции) как синтезу пре-Христианской греческой мысли с Евангельским посланием. Забвение духа предания сделало затруднительным понимание раскола единства Христианского сознания (между Восточным и Западным Христианством), которое неявным образом повлияло на распад единства человеческого духа на религиозную и научную модальности. Забвение духа предания имеет своим особым выражением отношение к богословию, а точнее, к теологии как отвлеченной дисциплине, не укорененной в опыте Бога. Именно в таком виде теология входит в диалог с наукой в его не-Православных формах. Тогда резонно поставить следующий вопрос: если богословие теряет свое основание в непосредственном опыте Бога, забывая про многовековой опыт Отцов и их предостережение об опасности абстрактного теоретизирования в богословии, может ли такое богословие без существенного обновления вступить в осмысленный диалог с современной философией и наукой? Кажется неизбежным, что ответ отрицателен. Для того, чтобы такой диалог был возможен, необходимо вернуться к корням современного богословия в предании, напомнив о том, что его истинной задачей является раскрытие смысла непосредственных жизненных проблем человечества. Именно поэтому с конца 1930-х годов Флоровский ратовал за развитие нового синтеза в богословии, который он называл «нео-Патристическим», считая, что именно он и должен стать основной задачей Православного богословия. Это предполагало восстановление, как он говорил, утраченного ума Отцов как определенной жизненной установки сознания и духовной ориентации, выраженной в свое время в Греческой Патристике, ставшей непреходящей категорией Христианского существования [25] Напомним, что движение «назад к Отцам» было также поддержано и католическими представителями так называемой nouvell théologie во Франции. Возвращение к Отцам происходит и сейчас, правда в иной и ограниченной форме, изнутри влиятельного междисциплинарного движения, называющего себя «радикальной ортодоксией».
. Для того, чтобы диалог между богословием и наукой стал осмысленным и экзистенциально значимым, надо, чтобы он способствовал преодолению кризисных явлений – как в богословии, так и в науке. Именно это позволит осуществить посредничество между этими двумя разделенными формами человеческого духа.
Интервал:
Закладка: