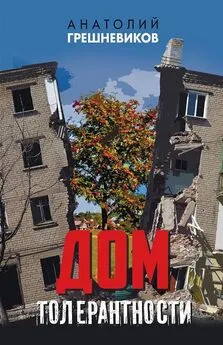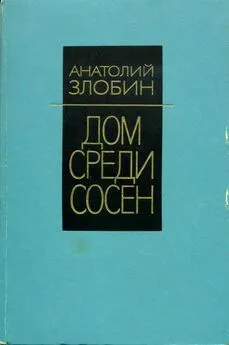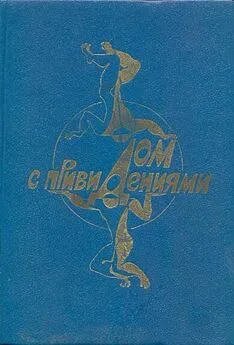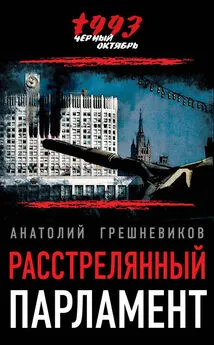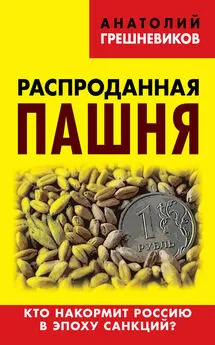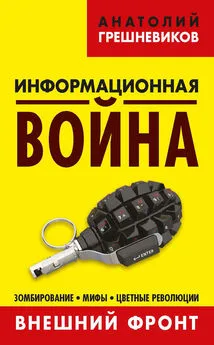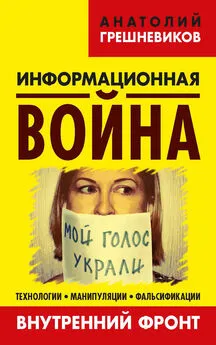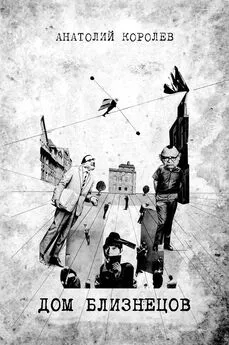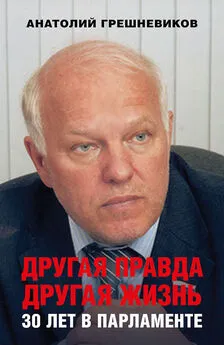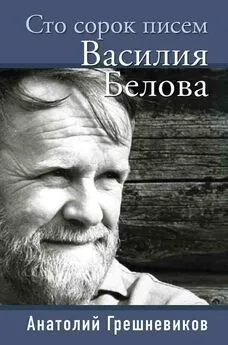Анатолий Грешневиков - Дом толерантности (сборник)
- Название:Дом толерантности (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9909393-0-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Грешневиков - Дом толерантности (сборник) краткое содержание
Дом толерантности (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
До революции деревня Кузнечиха считалась в районе одной из самых богатых и процветающих. Крестьяне жили в высоких, добротных, о пяти стенах домах. У некоторых первый этаж был выложен из красного кирпича. Здесь работала своя торговая лавка. С приходом к власти в стране коммунистов в деревне образовался колхоз имени Кутузова. Вначале селяне жили на энтузиазме и вере в создание справедливого общества. Построили на родной земле две начальные школы, в одной из них поставили киноустановку, медпункт, конюшню, свинарник, телятник, овчарню. Но с введением в колхозах оплаты труда крестьян трудоднями, многие из Кузнечихи побежали в города. Из ста жилых домов осталось тридцать.
Когда я писал очерк о коллективизации района, то нашел в архиве любопытный документ с изумительными подробностями. Оказывается, первым председателем Совета крестьянских депутатов был уроженец деревни Кузнечиха Михаил Семенович Блохин. Его избрали на эту должность 23 февраля 1918 года. В старых бумагах было записано, что он происходил из бедняков, и, будучи отходником, служил в Петрограде в торговой лавке. После службы в царской армии увлекся большевистскими идеями, приехал на малую родину и начал проводить коллективизацию. Архивист про то время сделал отметку на документе: «Нелегко было работать Блохину в кулацко-поповском окружении, воевать с бандитами, дезертирами». Конечно, национализация картофелетерочного завода, торговых лавок, земельных участков шла в районе трудно. Но кто же будет добровольно отдавать свое добро и имущество, нажитое в поте лица? Потому и возникали конфликты, когда кулаки, владельцы торговых лавок, при национализации обливали все съестное керосином.
В детские годы я любил возле этой деревни собирать грибы. Особенно мне нравилось местечко под названием Белынь. Я шел к нему специально от родной деревни Редкошово, пересекая пару болот, по извилистой, блуждающей лесной тропинке. Манила меня Белынь тем, что там росло множество крепких и здоровенных белых грибов. Их почему-то не вымачивал дождь, не съедал червь. Старожилы говорили мне, что Белынь получила название из-за этих волшебных белых грибов. Правда, другие селяне считали, что всему виной белоствольные березы, которые в округе собрались в многочисленные рощи. А лесник из близлежащей деревни Новоселка Михаил Шелехов вообще отвергал все эти версии. Он говорил мне, что раньше в здешних краях росло много чудесного белого мха, он то и дал название Белыни.
Вспомнив про грибные походы, я предложил Алексею Невиницыну заглянуть в березовую рощу и устроить там тихую охоту, насобирать лесных деликатесов и зажарить их тут же на костре. Но встреча рядом с прудом, где полоскались белоснежные гуси, с давней моей знакомой Галиной Павловной Алмазовой оборвала все мои устремления. Я часто в командировках начинал сбор материала для очередного очерка именно с беседы с ней. И в этот раз судьба подарила нам встречу с этой трудолюбивой женщиной, пережившей все этапы развития и падения родного колхоза. Она, как и прежде, была в платочке безукоризненной белизны, с лицом открытым, моложавым и серьезным. Только морщины на лице и руках превратились в трещины. Фигура сгорбилась. Зато память по-прежнему была светлой, надежной.
– А правда ли, Галина Петровна, что над Алмазихой ангелы летают? – задаю я ей провокационный вопрос, чтобы она перед моими попутчиками поведала историю того загадочного места, куда мы собрались доехать. – А еще говорят, что там алмазы на каждом шагу встречаются? Потому, мол, Алмазиху так и называли.
– Напридумаешь всего, – смеется Галина Петровна. – Алмазиха названа в честь хозяина мельницы Алмазова. Она стояла там давным-давно на берегу реки.
– Мы можем туда добраться?
– Попытайтесь. Пройдите Шумиху, потом Черную лужу, Горку…
– Какие интересные названия! – удивленно восклицает Владимир Алексеевич.
– Шумиха есть Шумиха. Там сосны шумят даже при слабом ветерке. Порой его нет, а кроны все равно переговариваются, шумят.
– А почему в деревне так мало домов? – задает неожиданный вопрос Владимир Алексеевич. – Я помню Кузнечиху, когда мы с отцом из Вахрева ехали через нее в Борисоглеб, тогда в ней около ста домов стояло, а сейчас их по пальцам можно пересчитать.
Галина Петровна осмотрела пронзительным взглядом моего попутчика. Не признав в нем земляка, осторожно поведала историю деревни, связанную со своей жизнью в ней.
– Кроме как государству, и некому было разорить нашу деревню. Крестьян держали в цепях, облагали налогами, вздохнуть не давали. Оброков навыдумывали, каких при помещиках не бывало. Мясо, шерсть, молоко, яйца – все сдай ненасытному государству. А не сдашь, придут и опишут все, вплоть до дров в печке. У одного нашего мужика всю поленницу увезли. Отец в нашей семье погиб на войне, оставив сиротами четверых детей. За него мама получала 5 рублей и килограмм сахара в год на ребенка. Помню, мама даст макнуть кусочек хлеба в ладошку, где лежит несколько крупинок сахара, и все лакомство. Я наелась сахара лишь в 16 лет, когда братишка купил его, продав тележку дров. Помню наши сенокосы по ночам… Косить жителям деревни для своей скотины сено почему-то не разрешали. Вот мы все и лазали по болотам, выкашивая осоку. Еще заготавливали в лесу лапник, да собирали во ржи васильки. Жизнь в деревне с каждым годом становилась невыносимей. А тут еще выдумали вместо денег давать трудодни, а их обменивали на полмешка зерна. Люди побежали, загня головы, подхватив голодных детей, в нелюбимые города. Никто не хотел оставлять родную землю, но власть заставила.
Рассказ старой крестьянки разбередил мне душу. Отец пережил в деревне Редкошово подобные издевательства. Также косил на болотах по ночам, украдкой сушил сено и прятал его. Также страдал от предательского отношения власть имущих, от постоянных экспериментов, унижений, поборов. Крестьян заставляли пренебрегать чувством собственного достоинства. А ему это претило. Он погружался в себя, замыкался, старался не раскрывать свою душу. Я видел, как он подолгу сидел у горящей печки, курил и страдал. В то время его, отменного плотника, заставляли разбирать в Вахреве дома по бревнам и перевозить в другие населенные пункты. Для мастера, умеющего превратить любое жилье в терем, такая борьба с неперспективными деревнями изматывала душу. Странная щемящая грусть, доставлявшая страдания, передавалась от отца ко мне и хватала за душу. Я давно неприязненно отклонял любую попытку заглянуть в те промчавшиеся годы, заглянуть в то прошлое, когда из отца-плотника чиновники делали разрушителя. Но сегодня Галина Петровна бессознательно открыла дверь в печальный мир русской деревни. И незримые руки потянулись ко мне из истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: