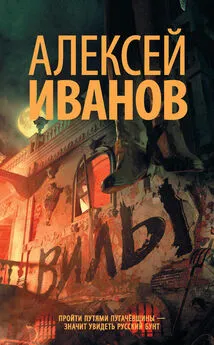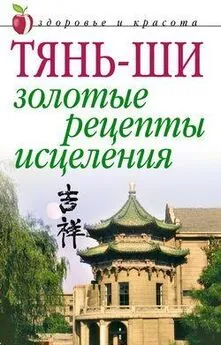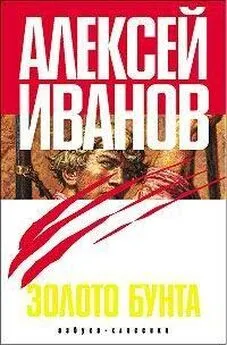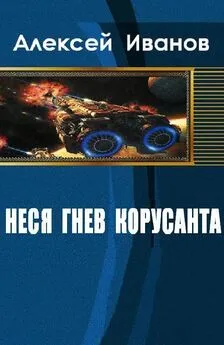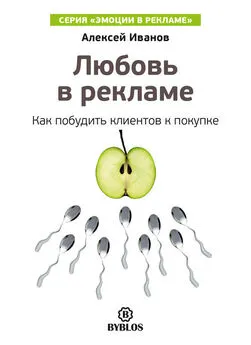Алексей Иванов - Вилы
- Название:Вилы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-097944-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Иванов - Вилы краткое содержание
Бунт Емельяна Пугачёва сотрясал Российскую империю в 1773–1775 годах. Для России это было время абсолютизма и мирового лидерства. Но как Эпоха Просвещения породила ордынские требования восставших? В пугачёвщине всё очень сложно. Она имела весьма причудливые причины и была неоднородна до фантастичности. Книга Алексея Иванова «Вилы» – поиск ответа на вопрос «что такое пугачёвщина?».
Этот вопрос можно сформулировать иначе: «а какова Россия изнутри?». Автор предлагает свою методику ответа: «наложить историю на территорию». Пройти сейчас, в XXI веке, старинными дорогами великого бунта и попробовать понять, кто мы такие на этой земле.
Вилы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У большого дуба дорога раздваивалась. Направо – на Царёво-Кокшайск, Нижний Новгород и Москву. В Нижнем Новогороде власти уже метались в панике, губернатор закрыл Макарьевскую ярмарку и собирал ополчение для отпора мятежникам. Но у Пугачёва не хватало войска, чтобы атаковать даже небольшой Царёво-Кокшайск, что уж говорить про штурм кремля Нижнего Новгорода. Идти на Москву Емельяну было пока не с кем. И он повернул налево – на Кокшайск и дальше через Волгу: к инородцам за подкреплением.
До XXI века марийцы останутся тихим лесным народом – единственным в Европе народом-язычником. Никому не мешая, шаманы-карды черемисов и сейчас проводят радения в молёбных рощах. И дуб, под которым раздумывал Пугачёв, до сих пор жив и почитаем. Он стоит в национальном парке «Марий Чодра». Кусты вокруг него обвязаны ленточками, но сам дуб – не священное дерево. Он – национальный памятник чужому бунту.

Памятный камень возле Пугачёвского дуба
Народ созидает памятники по своей идентичности. Именем Пугачёва рабочие горных заводов называли горы. Для крестьян «пугачёвскими» становились речки, деревни и урочища. У башкир имя Салавата врастало в скалы и пещеры. А у марийцев, лесных язычников, историческую память хранит удивительный дуб на сказочном Лукоморье.
Герой-разбойник
Вечером 17 июля отряд Пугачёва добрался до города Кокшайск на берегу Волги. Городок этот, по правде говоря, был деревня деревней: от крепости, построенной два века назад, здесь уже ничего не осталось. Власти Кокшайска удрали от Пугачёва, и мятежники всучили мятый Манифест подвернувшемуся отставному солдату Кораблёву. Из храма к Пугачёву выбежал поп с крестом для поцелуя, но Пугачёв молча проехал мимо. Лодок для переправы в Кокшайске тоже не нашлось. Все лодки на Волге порубили правительственные команды, чтобы бунт не переметнулся на правый берег, откуда до Москвы – прямая дорога. Отряд Пугачёва бросился в огромную ночную реку без плавсредств и «опрокинулся за Волгу», уповая на господа.
Пугачёв видел совсем не ту Волгу, к которой привыкли мы. Его Волга была огромной разбойной рекой в полудиком краю, где русские держались поближе к бревенчатым крепостям. Здесь на призывный свист из шумных лесов выходили инородцы с рогатинами, лиходеи с кистенями и разная чащобная нечисть
Кого бог помиловал, те выбрались на высокий крутояр, который сейчас зовут Пугачёвским взвозом. Замёрзшие на стрежне мятежники наскоро отжали портки, влезли на коней и поскакали к ближайшему большому селу Сундырь. Им было уже не до хлеба-соли. Разбив погреба купцов, пугачёвцы выкатили бочки с вином и подожгли церковь: кому пожар, кому погреться. Водка взбодрила. Огонь от храма и солнышко, взошедшее над Государевой горой, высушили одёжу. К Емельяну привели сержанта Чижова и шестерых солдат, которые рубили лодки на Волге, и Пугачёв приказал повесить служивых. Зато он помиловал Сундырь, хотя село не исполнило приказа поставить в войско Петра Фёдорыча 500 крестьян. Бог с ними, другие будут.
Пугачёв решал, куда идти дальше. Можно было двинуться на крупный город Чебоксары. Однако, по слухам, сейчас туда из Казани направлялся Михельсон, думая перехватить разбойников. К тому же год назад по Чебоксарам прокатился пожар, и поживиться там было нечем. И Пугачёв повернул на город Цивильск.

Обелиск в память о Пугачёве близ города Кокшайск
Здесь, на правобережье Волги, были плодородные земли чувашей. Чуваши как народ – дети булгар и марийцев. От булгар они унаследовали земледелие. Орда легко покорила чувашские княжества, а потом дань с чувашей собирала Казань. Когда татары и русские рассорились, чуваши восстали против казанских ханов и приняли подданство московских царей. Это произошло ещё до взятия Казани Грозным.
На землях чувашей русские построили свои крепости – Васильсурск, Ядрин, Чебоксары, Цивильск, Козьмодемьянск, Курмыш. Здесь, в междуречье Суры, Волги и Свияги, всего было если не в избытке, то в достатке: лесов, рек и лугов, лета и зимы, воли и неволи. И чуваши-земледельцы потихоньку превратились в обычных крестьян, которые от русских отличались разве что язычеством.
На мысу у слияния речек Большой и Малый Цивиль ещё в древности стоял городок Сюрп, где жил чувашский «сотенный князь». В 1589 году на его месте русские возвели крепость Цивильск. За столетие до Пугачёва её осаждали ватаги Степана Разина. За Волгой Пугачёв попал в мир, где главным героем был Стенька. От лиходеев Разина Цивильск уберегла икона Тихвинской Богоматери. Она заговорила. «Не сдавайтесь, – сказала икона защитникам города, – и Стенька непременно отступится». Так и вышло. В память о том, как Богоматерь укрепила дух горожан, жители Цивильска возвели Вознесенский монастырь. Там и хранилась чудотворная икона.
Пугачёв не стал входить в Цивильск. Он не любил жить в захваченных крепостях и городах, предпочитал простор и шатёр, как хан. В Цивильск Емельян послал казаков. Казаки повесили цивильского воеводу, разгромили Троицкий собор, лавки и питейный дом и раздали народу найденные запасы соли. Из Вознесенской обители они привезли Емельяну откуп – казну монастыря. Обитель благоразумно предпочла убыток разорению.
Признаваться в сделке с мятежником монахи, конечно, не захотят, и сочинят сказку о чуде. Якобы Богоматерь, чей образ заговорил во время разинской осады, встретила Емельяна на околице Цивильска и поразила слепотой. Прозрел Пугачёв только тогда, когда ушёл прочь от города. Монахи Цивильска поступят так же, как жители Елабуги. Но в Елабуге сказка уподобляла Емельяна башкиру-мятежнику, чужому и непонятному, а в Цивильске – родному и любимому герою-разбойнику.

Троицкий собор в городе Цивильск – свидетель пугачёвщины
Стенька – он грабил богатых, дарил свободу и вообще был молодец. Емельян казался повторением Стеньки. Это прибавляло бунту Пугачёва народных симпатий и привлекало крестьян, но разрушало организацию, размывало смысл мятежа. За Волгой миф об удалом Стеньке вытеснял старательно выстроенный Пугачёвым миф о справедливом царе Петре Фёдорыче и активировал совсем не те надежды.
Пугачёвщина без Пугачёва
Мятеж в Поволжье историки назовут «пугачёвщиной без Пугачёва». Бунты чувашей вспыхнули в четырёх десятках сёл от Волги до Суры, но вожаки народных бунтов и не подумали ехать к Емельяну за чинами полковников. Чуваши не нуждались в одобрении Пугачёва, потому что решали свои проблемы, а не пугачёвские. И бунтовали они против своих хозяев, а не против общих порядков империи. Самозванство Пугачёва их не удивляло: чувашам, недавним общинникам, оно казалось полностью «законным». У кого войско, тот и князь. По-русски – царь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: