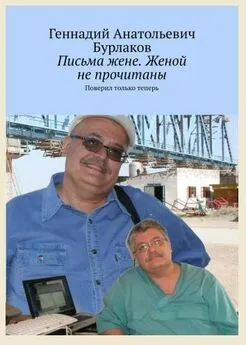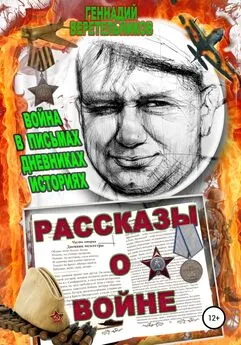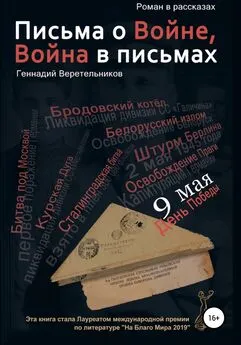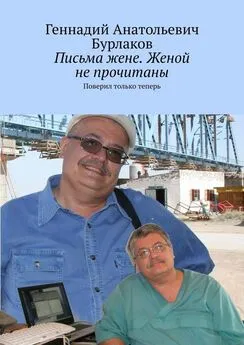Геннадий Гаврилов - Письма странника. Спаси себя сам
- Название:Письма странника. Спаси себя сам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-6045413-0-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Гаврилов - Письма странника. Спаси себя сам краткое содержание
Письма странника. Спаси себя сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Трудно выразить красоту Алтая словом. Надо смотреть. И поплыли воспоминания – ностальгия. Это от того, видимо, что слишком засиделись мы в городах, а чуть выползешь, как таракан, из своей кирпичной или бетонной щели за раковиной на подоконник, так и – Боже ты мой!
Волны гор вдоль дороги. Туч касаются сосны.
Рюкзаки за плечами тяжелы и несносны.
Дней двенадцать в пути – но еще нам идти.
Проводник узкоглазый знает дело толково.
Мы шагаем за ним вдоль пологого склона —
На крутых виражах рюкзаки словно гири.
Наконец – и привал.
Здесь – часа на четыре.
И Катунь там – внизу, словно нити ладоней.
И в шагах десяти из алтайских предгорий
Незнакомая Дева у палатки распятой.
Среди нас пропотевших, усталых, помятых
Лишь она пахла небом и сладкою мятой.
Ее пальцы держали картофельный клубень
– Так, наверно, шаман держит звонкий свой бубен.
Мы внимали глазами, мы внимали губами
Как она наливала жаркий чай из бадана.
Это хрупкое чудо на вершинах – Откуда?
Господи, поездил я и по Европе нашей и по Азии – довелось мне как-то перегонять две спецмашины из Москвы в Новосибирск.
Да, российские просторы не сравнить ни с какими зарубежными «интересными местами». В пермском лагере что успокаивало – за колючей проволокой лес, зеленой волной уносящийся в голубую даль зауральских гор.
Посмотришь на эту красоту – и отойдет на время от сердца тоска и боль за разломанную жизнь.
И вроде бы не так становится страшна и клетка, в которую посадили тебя, отгородив от мира колючей проволокой.
Мир-то, оказывается, вот он, здесь – в сердце моем.
И пока бьется сердце – живет в человеке надежда, а вместе с ней и он сам живет рядом с небом, облаками и умудренным временем лесом. А весь Урал – сокровищница уникальных пейзажей, душевного трепета и духовного восторга. Величественные панорамы долин и поднимающихся над тучами горных вершин.
Или на Алтае – не хватит холста и красок, привезенных с собой, чтобы запечатлеть таинственность и внутреннюю сосредоточенность Ябаганского, Кырлыкского или Аккобинского перевалов. Не говорю уже о неописуемых очертаниях и изгибах сливающихся в экстазе горных рек.
Какая радуга во все небо встретила меня у села Абай – словно вселенская лютня играла, завораживая красками и звоном заснеженные вершины. Неописуемо и разноцветие ковра Уймонской долины. Не забыть и ущелье Курагана, и Кочурлинский белок в районе Тюнгура. Здесь особенно красива Катунь. Отсюда и рукой подать до двуглавой Белухи. Один только Чуйский тракт на обычном рейсовом автобусе по богатству и колориту ощущений перевесит все Турции и Канары, одной веревкой перевязанные.
Удивляюсь я, в связи с этим, на наших новых русских. Едут за границу, платят деньги, а смотришь снятые ими «видюшники», и что? Радуются они там, у иностранцев, и плещутся в искусственно созданных для взрослых купальнях с детскими «прибабасами».
По желобу съедут на пузе в корыто, да нырнут с круглого пятачка туда же – и все удовольствие. Здесь их в автобус, там за ручку, тут в припрыжку, дальше – в присядку. Хлоп-топ – куча денег. И – пошли вон. Гони следующих.
Оказавшись отрезанным от Академгородка, помимо бесед с молодежью в институте на оккультные и эзотерические темы, я начал налаживать контакты с интересными людьми в Новосибирске. Самостоятельно подготовив на «дозволенном» уровне цикл лекций, сопровождающийся показом слайдов о жизни и творчестве Николая Рериха и его семьи, я выступил с этим циклом в «Обществе знаний». Получив затем удостоверение нештатного лектора этого общества, по вечерам, а иногда и в дневное время, стал ездить по учреждениям Новосибирска. Оказалось, что эта тема имела спрос и заявок на цикл лекций было более, чем я ожидал.
Постепенно вокруг меня образовалась группа людей, проявивших интерес к более полному знакомству не только с жизнью и творчеством Рерихов, но и с книгами «Учения Живой Этики».
В связи с этим я стал подумывать о создании, по аналогии с Академгородком, секции «Индийский путь» при Доме ученых Новосибирска, планируя привлечь к этой работе своих знакомых. При организации такой секции я и мои новые единомышленники прекрасно понимали, что пропагандируя Живую Этику, мы, тем самым, пропагандируем новый Российский, а не Индийский путь, памятуя сказанное в Учении: «В Новую Россию Моя первая весть». Но в то время так прямо ставить эту проблему было еще нельзя.
«Ваша инициатива с секцией в Доме ученых может дать хорошие результаты, – писал Павел Федорович, – но, как показывает опыт, лучше начинать не с официальных предложений и организационного оформления, а с подготовки людей.
Если образуется круг достаточно глубоко заинтересованных и дееспособных людей и внутренне все созреет, то и структурная часть секции образуется… Как и во всем – главное люди, и очень важен подход молодых» (июль 1977).
В самом же Академгородке я налаживал личное сотрудничество с лидерами уже в то время конкурирующих и конфликтующих между собой рериховских групп – с Натальей Дмитриевной Спириной и Алексеем Николаевичем Дмитриевым. Я упоминал уже, что еще на Рериховских чтениях Павел Федорович представил меня Наталье Дмитриевне. Она стояла у истоков Рериховского движения в России, вела широкую и многоплановую общественную работу в этом направлении, была членом совета Музыкального салона и картинной галереи при Доме ученых Академгородка. Несколько позднее в статье «Когда звучат краски», опубликованной в газете «Вечерний Новосибирск», я писал о ней и ее учениках:
«В тот вечер малый зал Дома ученых Академгородка не вместил всех желающих. Стояли вдоль стен, теснились в проходе и у дверей… Отзвучала сюита Дмитрия Шостаковича на стихи Микеланджело. И в тишине зала мягко, но мощно вспыхнули стихи Вознесенского. А на экране, как бы вырастая одно из другого, сменялись изображения фресок Сикстинской капеллы… Пластика художественных форм дополнялась героическими ритмами Пятой симфонии Бетховена. Единство музыки и поэзии, образа и ритмики, словно волшебный кристалл, завораживал зрителей необычностью этого симфонического синтеза: Шостакович – Микеланджело – Вознесенский… Нравственное совершенствование человека, его устремленность к прекрасному – основная нота в творчестве Натальи Дмитриевны Спириной… И эта нота, по ее словам, полнее всего звучит в гармоническом сочетании звука, цвета и стихотворного ритма… «Известно выражение «краски звучат», – говорила Наталья Дмитриевна. – И оно не случайно. Синтез искусств, как и синтез наук – это веяние нашего времени. Один род искусства как бы находит свое продолжение, свое развитие в другом…».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
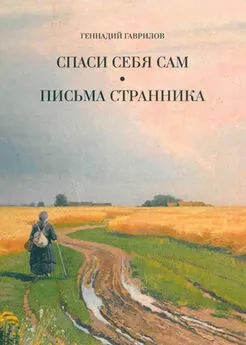

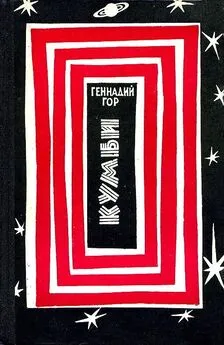
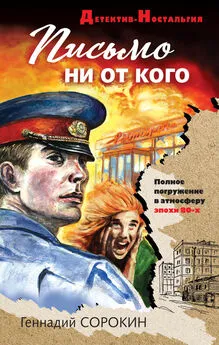
![Элизар Магарам - Желтый лик [Очерки одинокого странника]](/books/1085792/elizar-magaram-zheltyj-lik-ocherki-odinokogo-strann.webp)