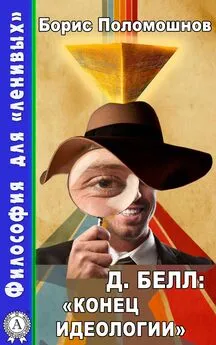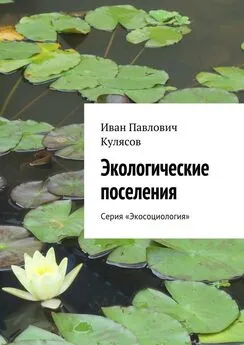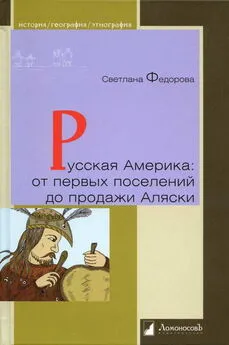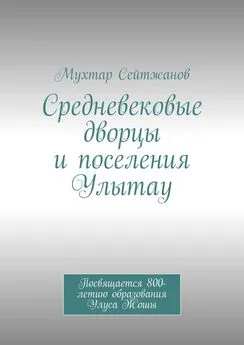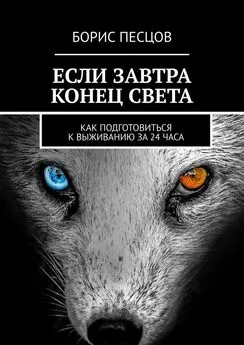Борис Берхин - Конец поселения
- Название:Конец поселения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005626202
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Берхин - Конец поселения краткое содержание
Конец поселения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Здравствуй, старший. На Ашпыле плохие люди стоят. И тебе, и мне плохо будет. Прогнать надо. У тебя ружья есть, мужчины есть. Надо вместе на них напасть. У нас ружей нет – без вас не получиться может.
– Ты не понимаешь – этих прогоним, новые приедут. А если нападем – в тюрьму посадят.
– Какая тюрьма? Это ж наша земля. Мы здесь всегда жили.
– А для городских – это их земля. И ничего ты не сделаешь. Нападешь – только хуже будет. И моим будет хуже, если с тобой пойду нападать.
– Значит, не пойдете?
– Не пойду. И тебе не советую. Людей погубишь только.
Вождь, не сказав больше ни слова, повернулся, сел на лошадь и ускакал. Ночью хакасы попробовали снова сжечь палатки. Но казаки оказались готовы к нападению. Нескольких поджигателей застрелили, а пятерых поймали, включая и вождя.
Десятник заставил провести связанных хакасов мимо деревни общинских. Староста приказал своим встать на колени и первым подал пример.
Хакасы после этого забрали священные камни с Базыра и навсегда ушли из долины.
Горы закрылись тучами, не желая смотреть на людей.
Общинские ночь не спали, молились вместе, собравшись в часовне, а потом всей деревней поднялись и ушли в тайгу, за Линево, на новое место, подальше от станции.
Там построили себе дома. Часовню бережно, по бревнышку, разобрали и перенесли в новую деревню.
Добраться до нее было непросто. С одной стороны – озеро, с другой – горы, тут почти такие же высокие, как прежде, в те времена, когда только птицы и река Горячая пересекали границу этого мира.
С третьей стороны жило своей жизнью болото. По нему даже зимой старались не ходить. Несколько горячих источников не давали ему заледенеть даже в самые лютые морозы. Это жаркое дыхание земли иногда нагоняло на единственную таежную дорогу до деревни такой густой туман, что даже выросшие здесь охотники предпочитали остановиться и переждать, пока ветер не прогонит белый морок. Потому и назвали новую деревню странно – Парная. Одинаковые избы, большие и добротные, стояли в линию, вокруг насыпали битого камня, чтобы внутрь не попадала весенняя и осенняя грязь.
Железную дорогу построили, но гнать отсюда лес оказалось невыгодным, Шарыпово опустело.
Брошенные общинскими дома разрушились, поля заросли свежим подлеском. Но через пару лет, на волне столыпинских реформ, приехали переселенцы из Центральной России. Название Шарыпово закрепилось за станцией, а сама деревня стала Расейской – для местных новые жители приехали из «Расеи». Теперь дома ставили вокруг станции – в паре километров от старых.
Заново распахали поля, очистили пастбища, стали отправлять по железной дороге хлеб в города. Много семей разбогатели на щедрой земле, богатой жирным черноземом, накопившимся за века. К Первой мировой больше половины домов было крыто железом, местный кооператив поставил маслодельню, отправлял продукцию аж за Урал, на Макарьевскую ярмарку. В 1912 году скинулись от хороших заработков всей деревней, поставили богатый храм, рядом с ним – школу. Еще раньше железнодорожники отстроили здание вокзала и дом для начальника станции.
Но жили люди как-то неустойчиво, неуверенно, как будто не могли до конца решить: остаться или уехать. Настоящей общины, того строгого, раз и навсегда установленного для каждого обитателя деревни уклада, вне пределов которого до переселения в Сибирь мужики не мыслили своей жизни, здесь вдруг не стало. Земля теперь была не общинной, а частной, поэтому каждая семья держалась наособицу, помогать друг другу привычки не сложилось, наоборот – друг другу завидовали, зачастую злобно, чужим несчастьям радовались. Выходцы из разных губерний считали «своими» только земляков. Владимирцы, ярославцы, тверичи – замыкались внутри своего круга, первые годы даже жениться было принято только на своих.
Хотя земли и леса было вдоволь, избы по-прежнему строили, как правило, с одним покоем. Поэтому вся большая семья – три-четыре поколения – жила в одной комнате, Родители и дети, иногда уже взрослые и женатые, спали рядом. Кроватей не было – ютились на лавках и на полу, зачастую каждую ночь на новом месте. Старики и малышня – на печке. Зимой отгораживали угол для скотины, чтобы не замерзала.
С прежними обитателями деревни дружбы не сложилось. Переселенцы считали общинских перешедшими в «жидовскую веру», рассказывали небылицы об их богатстве. Сами же общинские всех, кто ходил в православный храм, курил, выпивал, считали нехристями, еретиками. Озеро Линево стало негласной границей между двумя общинами, которую без нужды старались не пересекать. Но взаимная неприязнь не мешала торговле. Шарыповский кооператив стал покупать для общинских нужные им товары сразу большими партиями, что выходило дешевле. Общинские расплачивались мехами.
Избу в Расейской каждая семья строила, где хотела и как хотела. Рядом с большим пятистенком зачастую стояла маленькая избушка из старых, потемневших уже венцов, надерганных из брошенных когда-то общинскими домов. Ворота тоже ставили как попало, не глядя на соседа. Поэтому центральной прямой улицы не было, чтобы пройти из дома в дом, даже рядом, приходилось несколько раз поворачивать.
Горы с недоумением смотрели на эту деревню, где дома походили на толпу растерявшихся людей, где каждый был готов убежать, но никто не знал, в какую сторону.
Улицы не мостили, по весне и осени щедрая на урожаи земля превращалась в непролазную черную грязь. Бывало, скотина застревала посреди улицы, и ее приходилось вытаскивать, привязав веревки к рогам.
Многие из переселенцев со временем переставали работать на земле. Кто-то уходил в тайгу – добывать белку или собирать живицу, некоторые нанимались мыть золото. А около станции шумел день и ночь кабак. В нем иногда за пару недель старатели спускали все заработанное за месяцы – и до новой работы жили впроголодь. Молодые стали уезжать из Расейской в город, Ачинск или Красноярск, устраивались на заводы, самые удачливые – на железную дорогу.
Одними из первых в 1906 году в Расейской поселились Карп Аипов с женой Акулиной и двумя сыновьями, Тихоном и Иваном. В родной деревне под Владимиром земли давно не хватало, поэтому до отъезда в Сибирь Карп каждый год батрачил в ярославских деревнях у хозяев, живших и работавших в Петербурге. Батрачество это было малоприбыльным, едва получалось сводить концы с концами. Карп мечтал работать на своей земле. Поэтому, когда пообещали дать на семью аж до двадцати десятин, решил переселяться.
Карп был высокий, худощавый, жилистый. Родители его умерли рано, и он усвоил, что главное в жизни – это еда и работа. Ни о чем другом он думать не привык и не хотел. И на свою семью он смотрел не как на близких, родных людей, а как на такое же средство работы для обеспечения едой, как его руки, как рабочий инструмент, лошади или коровы. Время от времени он бил свою жену, но не потому, что она как-то противоречила ему, или плохо работала, или не удовлетворяла его. Даже не для собственного удовольствия, а по обычаю, просто потому, что так было заведено. И Акулина сама привыкла считать себя чем-то вроде домашней скотины, с которой хозяин заведомо может делать что угодно – на то он и хозяин. В этом не было ничего странного – наоборот, иной уклад вызвал бы в деревне осуждение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: