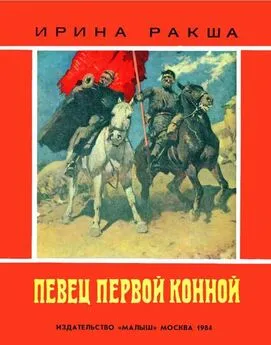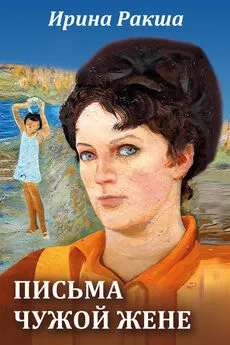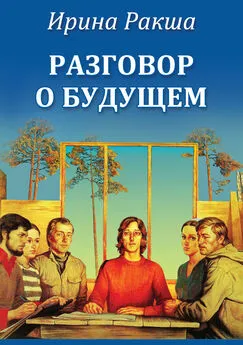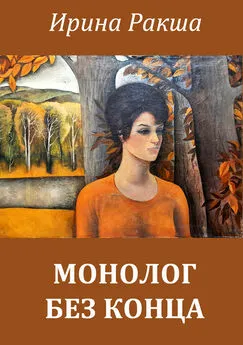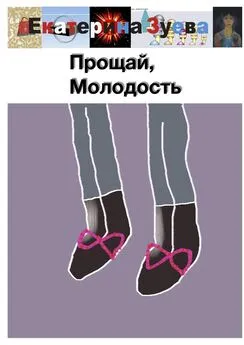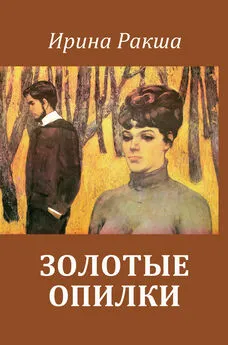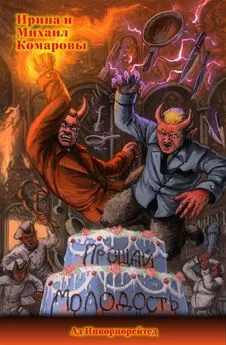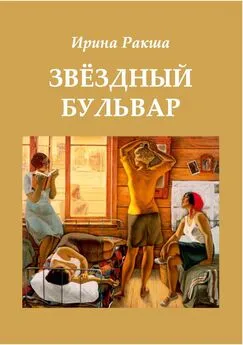Ирина Ракша - Прощай, молодость
- Название:Прощай, молодость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907564-24-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Ракша - Прощай, молодость краткое содержание
Итак, вы на пороге увлекательного чтения и новых открытий!
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Прощай, молодость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Москве у Плевицкой было две квартиры. Одну снимала, затем купила собственную. Настасьинский пер., 4, и Дегтярный пер., 15. Обе – в самом центре Москвы, меж Тверской и Дмитровкой (скульптор Клыков незадолго до своей смерти изваял мемориальную доску на стене её дома: певица и Рахманинов у рояля – но доска и по сей день не открыта, стоит в зале Русского центра).
Знаменитый Зимин (директор Оперетты), живший в особняке в Дегтярном, напротив квартиры певицы, что была во втором этаже, писал: «Когда к Плевицкой приезжал Фёдор Шаляпин и они репетировали, пели, играли в четыре руки, под окнами собиралась такая толпа слушателей, что не могли разъехаться экипажи. И приходилось вызывать городовых…» Граммофонные пластинки с её песнями, каждая из которых была откровением и открытием, даже спектаклем, расходились многотысячными тиражами, принося огромные доходы «заводчикам». Её «драматический, ни с кем не сравнимый голос» звучал и в домах бедноты, и в салонах аристократии. И в городе, и в деревне.
«Слава её порой превосходила Шаляпина» (И. Шнейдер). Да, это был настоящий триумф, но одновременно и огромное человеческое испытание. Испытание души вчерашней барышни-крестьянки, вдруг ставшей богатой светской дамой, настоящей звездой русской эстрады, которой поэты и композиторы посвящали стихи, романсы, песни. Стала она теперь и меценатом. Помня свою недавнюю нищету и крепостной статус родителей, не отказывала в помощи никому: «просителям и страдальцам, подлинным и мнимым». За кого-то ручалась, за кого-то ездила хлопотать к начальству. Подавала прошения. И без конца давала благотворительные концерты. Порой могла снять с пальца дорогое кольцо и отдать бедному. Жертвовала на церкви, общества, редакции газет, профсоюзы, просто просителям. «А сколько меня обманывали, обирали, в том числе и прислуга, одному Богу известно. Но я всегда думала: ничего, им, наверно, нужнее. А меня Бог не оставит». Она вела жизнь вечной труженицы, кого-то содержала, кого-то опекала: строила на свои заработки то дом-имение в Винникове, то дом в Курске, то шикарную квартиру в Москве.
Потом писала: «Кажется, будто только вчера скакала босоногая восьмилетняя Дёжка (так звала меня матушка) на палке верхом, пасла у речки гусей. Радовалась новым лаптям, которые сплёл брат Коля из мелко нарезанных лык, чтобы побаловать сестрёнку. А теперь та самая босая Дёжка едет в собственной барской карете и в парчовых туфельках».
Нежданно-негаданно она оказалась в окружении лучших людей России. Это был буквально цвет общества. К примеру весь МХАТ обожал её, пригласить Плевицкую в гости считали за честь. Актёры – Качалов и Москвин, Савина и Кшесинская. Писатели, поэты – Андреев, Куприн, Бунин, Щепкина-Куперник, Есенин, Клюев, Варшавский, Ремизов. Художники – Коровин, Бенуа, Малявин. Музыканты – Андреев, Чернявский. Последний буквально посвятил ей всё своё творчество, аранжировал её песни. «Трёх гениев от земли, трёх самородков подарил нам русский народ: Горький, Шаляпин, Плевицкая» – эти слова были общим местом в прессе тех лет.
«Сценическим воспитанием моим занимался тогда Станиславский… А М. А. Стахович (градоначальник Москвы), заботясь о моём образовании, постоянно присылал мне полезные для чтения книги, – вспоминала певица. – Я добросовестно и любовно читала. Прочла «Анну Каренину» и «Войну и мир», все художественные произведения Толстого. Но после «Разрушение ада и восстановление его» читать Толстого перестала.
Исчез образ доброго художника, величественный, как вершина снеговой горы. И представился мне злой и желчный старик, который и Бога, и Ангелов, и людей, и чертей – всех ругает, все у него злые. Один он справедлив, один он всем судья… Разлюбила Толстого за его недобрую мудрость, за грешный и злой старческий ум…»
В те годы Надежда Васильевна оказала огромное влияние на ход развития русской музыкальной культуры. Народная песня расцвела наряду с романсом, потеснила цыганщину. У певицы учились многие.
Музыканты заимствовали и репертуар, манеру. Хотя она, как писали критики, была «недостижимо мощна и глубинна, а попросту неподражаема». В их числе были и наши современники (дожившие почти до конца века). Вадим Козин, Клавдия Шульженко с восторгом вспоминали, писали о ней. Отдельно надо сказать о Лидии Руслановой (к слову, не все знают, что это псевдоним народной мордовской певицы Липкиной). Так вот, Русланова, ревниво не позволявшая молодым певицам использовать песни из своего репертуара, сама почти полностью заимствовала репертуар умышленно «забытой» ею и к тому моменту уже погубленной во Франции эмигрантки Плевицкой. Хотя сама тайно (в годы сталинского террора было небезопасно вспоминать эмигрантку, да и сама она с мужем-генералом отсидела в концлагере) прослушивала, «прорабатывала», буквально штудировала записи Плевицкой на дореволюционных пластинках, которые некогда были в каждом доме. Пыталась даже копировать её манеру, её модуляции, интонации. Но уж очень огрубляла, кричала, «выпрямляла» каждую песню. Немыслимо «перекраивать на себя, как одёжку» чужой Божий дар, великую душу, судьбу, талант. Слава Плевицкой в России начала века была огромна. Ей стоя аплодировали переполненные залы театров, консерваторий, собраний.
Она знала толпы поклонников и море цветов. После концертов в экипаж её впрягались восторженные почитатели. Однако ей, православной душе, важно было другое. «С благодарностью вспоминаю я моих добрых друзей, которые не только слушали мои скромные песни, но помогали жить и, можно сказать, воспитывали меня… Лужский и Вишневский, Москвин и Качалов, Стахович, Мамонтов, Ванда Ландовская, Станиславский – все волшебники московские. Помню, как после моей песни Вишневский сказал Станиславскому: «Ты заметил, у Плевицкой расширяются зрачки, когда поёт?» – «Это значит, душа горит. Это и есть талант».
Станиславский дал мне тогда один хороший совет: «Когда у вас нет настроения петь – не старайтесь насиловать себя. В таком случае лучше смотреть на лицо, которое в публике больше всех вам понравилось. Ему и пойте. Будто в зале, кроме вас и него, нет никого». Я часто пользуюсь этим советом. И всегда вспоминаю образ московского мага в ослепительной седине, который, может быть, больше всего вдохновляет меня… Помню, как они уговаривали меня оставить мысль об опере, куда меня одно время очень влекло…» (Плевицкая тепло и много вспоминает о МХАТе, интересно, есть ли в музее театра её мемуары? Вспоминают ли о ней на лекциях в школе МХАТа? Помнят ли о ней актёры? Или слыхом не слыхивали? А ведь Станиславский и труппа дружили с ней, сердечно встречались и в Европе, когда она была уже в эмиграции…)
А вот что писал о ней знаменитый Александр Бенуа – автор либретто «Петрушки» Стравинского (это лишь отрывок): «Идея этого номера (имеется в виду «Ухарь-купец») пришла мне в голову, когда я услышал популярную песенку Надежды Плевицкой, которая… в те дни приводила в восторг всех – от монарха до последнего его подданного – своей типично русской красотой и яркостью таланта…» Популярнейший критик А. Кугель, постоянно следивший за ростом её дарования, писал: «Она стояла на огромной эстраде, близко от меня… в белом платье, облегавшем стройную фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми чёрными волосами, блестящими глазами, красивым ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми ноздрями… Она пела… не знаю, может быть, и не пела, а сказывала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
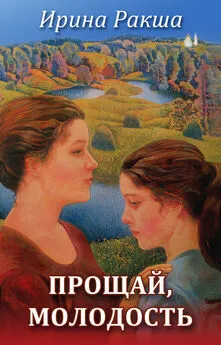
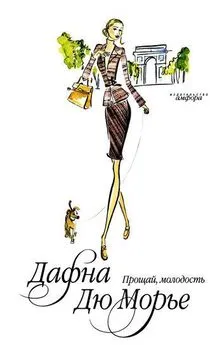
![Михаил Комаров - Прощай, молодость! [СИ litres]](/books/1071696/mihail-komarov-prochaj-molodost-si-litres.webp)