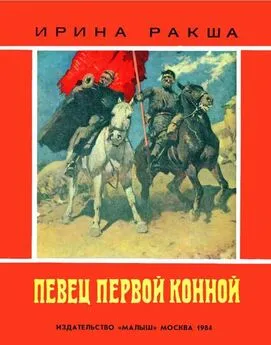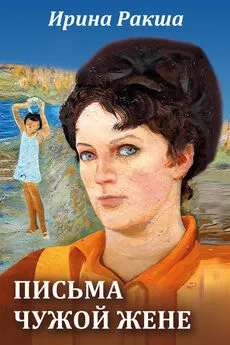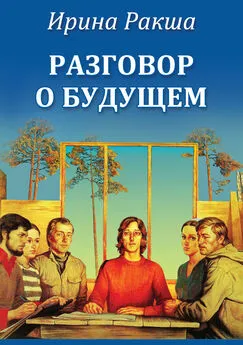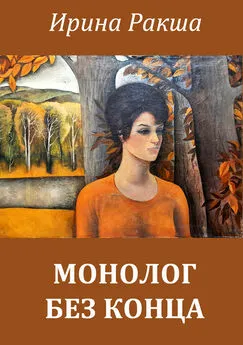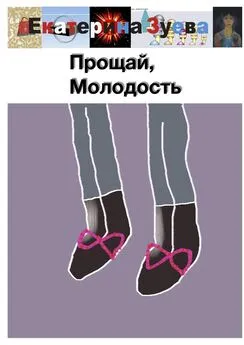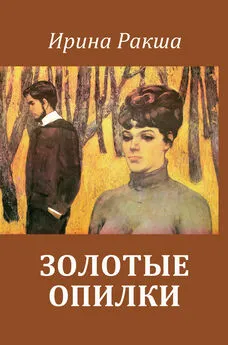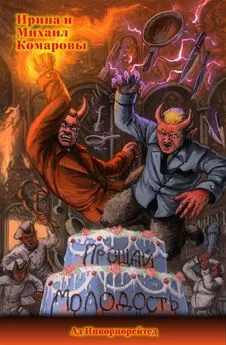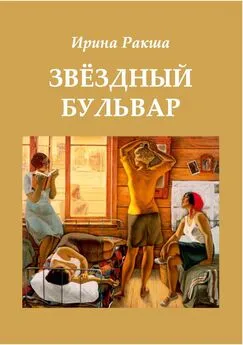Ирина Ракша - Прощай, молодость
- Название:Прощай, молодость
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-907564-24-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Ракша - Прощай, молодость краткое содержание
Итак, вы на пороге увлекательного чтения и новых открытий!
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Прощай, молодость - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«После боя под Сталупененом ночь была сырая, холодная. Ночевать пришлось в разбитом доме без окон, где вповалку спал кто-то. Пронизывал ветер. В углу оплывала свеча. Горячий чай в никелевой кружке показался мне драгоценным напитком, а солома на полу – чудесным пуховиком…
Утром солнце осветило наше убогое жилище, и мы увидели, что спали среди мертвецов… Около дома, в сарае, в придорожной канаве, в поле – всюду лежали павшие воины. В синих мундирах – враги, в серых шинелях – наши. Страшный сон наяву!.. Передо мной лежал русский солдат в опрятной, хорошей шинели. Спокойно лежал, будто лёг отдохнуть. Только череп его, снесённый снарядом, как шапка, был отброшен к плечу и, точно чаша, наполнен кровью. Чаша страдания, чаша жертвы великой. «Пейте от нея вси, сия есть кровь Моя яже за вы и за многия изливаемая». Тот Бессмертный, Кто сказал это, наверно, ходил между павших и плакал. Из походного ранца солдата виднеется край полотенца, на нём вышито крестиком «Ваня»… Ах, Ваня, Ваня, кто вышивал эти ласковые слова?.. Что нынешней ночью снилось тем, кто так любовно, заботливо собирал тебя в поход?.. Холодное солнце дрожит в чаше, наполненной твоей кровью. Я одна над тобой».
После революции, в Гражданскую, она пела и белым, и красным, словно хотела, как две руки, свести их, примирить братьев, вдруг ставших врагами друг другу. Об этом, о двух своих встречах с певицей Плевицкой вспоминает Иван Бунин в «Окаянных днях» (Одесса, 1919 год).
Безуспешно неоднократно прорывалась она сквозь фронт под Киев к сестре Маше, растившей кучу детей, среди которых был и Женечка. Пыталась попасть и в родное Винниково. «Как слабый луч сквозь морок адов – так голос мой под гром снарядов». Впоследствии в Париже Зинаида Гиппиус, также уехавшая из охваченной смертным пожаром России, напишет: «Тем зверьём, что зовутся «товарищи», обескровлена наша земля». А вот строка из письма сестры царицы – святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Фёдоровны: «Вся наша земля истерзана и раскромсана на куски собственным народом». (В 1918 году в Алапаевске большевики сбросят её живой вместе с близкими в шахту.) История Гражданской войны полна крови, личных трагедий и драм, порою уже забытых, подёрнутых пеплом времени…
Мне рассказывали, например, как однажды отрядом корниловцев под командованием молодого полковника (впоследствии генерала) Николая Владимировича Скоблина в бою под Фатежем была отбита у красных и спасена от расстрела группа военных, заключённых в скотном сарае. «Среди них офицер Левицкий и куда-то направлявшаяся «певица-буржуйка» Плевицкая». Одного только этого эпизода из жизни Надежды Васильевны было бы достаточно для отдельного драматического сюжета. А сколько их было, таких эпизодов!..
Надежда Васильевна прошла с белой армией её крестный, героический путь до Чёрного моря. «Не лебедей это в небе стая: / Белогвардейская рать святая / Белым видением тает, тает… / Старого мира – последний сон: / Молодость – Доблесть – Вандея-Дон» (М. Цветаева).
Затем была ветреная, холодная зима в Галлиполи, на берегу Дарданелл, на каменистых, голых холмах полуострова, где голодала, замерзала в палатках, но не погибла, а «до единого человека выжила» вывезенная Врангелем из Крыма и Новороссийска на кораблях многотысячная русская армия. Там, в Галлиполи, состоялось тайное, неафишируемое бракосочетание Надежды Васильевны с генерал-майором Николаем Владимировичем Скоблиным, человеком бесстрашным и благородным, с которым она прожила до конца жизни. Внешне он был человеком невидным, невысоким и скромным. Но всегда подтянутым, стройным. На их армейской свадьбе посажённым отцом был генерал Кутепов (впоследствии, как и Скоблин, погубленный большевиками). «Наша матушка» – любовно называли певицу солдаты. Она и правда много делала для спасения армии. На заработанные ею деньги закупались мешки продовольствия: мука, сахар.
Она одна, имея право на выезд, без конца отправлялась с концертами в соседнюю Болгарию, в Европу. «Подвиг есть и в сраженье, / Подвиг есть и в борьбе. / Высший подвиг – / В терпенье, и любви, и мольбе» (А. Хомяков).
Впоследствии русская эмиграция осела в Белграде, Праге, Берлине, Париже. Устраивались на чужбине кто как мог. Вчерашние гвардейские офицеры становились официантами, слесарями, таксистами. После непродолжительной жизни в Берлине у Эйтингонов Плевицкая с мужем переезжают в Париж. Скопив денег (продав даже драгоценности), Плевицкая в рассрочку покупает небольшой дом под Парижем, в местечке Озуар-ла-Феррьер.
Ностальгия по России мучила её постоянно. Потому участок вокруг дома она усадила белоствольными берёзами и елями, напоминавшими ей родные деревенские дали, село Винниково, «Мороскин лес». Разбила она и цветочные клумбы, точно такие, как некогда в своей усадьбе. Её муж, в отличие от некоторых других генералов – руководителей Российского общевойскового союза (РОВС), в эмиграции заработков почти не имел. В семье она зарабатывала одна. Порой душило безденежье. Надо было одеваться, выступать в концертах, оплачивать и содержать дом, аккомпаниатора, а главное – «держать Коленьку на плаву, чтоб занимался своей политикой». К этому времени большинство русских офицеров и их семей, всё распродав, разорились. Бесправные, униженные французскими властями, они работали даже носильщиками на вокзалах. Годы эмиграции были, пожалуй, самыми тяжкими в жизни певицы. Ещё в двадцатые годы она дважды через знакомых музыкантов посылала прошения в СССР о возможности ей вернуться на Родину. Но Дзержинский, уполномоченный по этим вопросам, упорно (резолюции писал с издёвкой) отказывал.
Октябрьский переворот, словно ножом, рассёк судьбу певицы надвое. И хотя она много работала, репетировала, пела (в Берлине, Белграде, Риге, Варшаве, Софии, Бухаресте) – было тяжело душевно. Было почти немыслимо без родных, близких, друзей, без русского языка, без земли, без корней. Её, человека глубоко верующего, истинно православную христианку, к тому же селянку, Надюшу-Дёжку, нестерпимо и жгуче тянуло домой. Ностальгия буквально сжигала душу. Сколько слёз было выплакано в молитвах, сколько мыслей и слов обращено к Богу. Сколько средств пожертвовано в православную красную Церковь (в Париже). И в этом, в желании вернуться, они с мужем были единодушны, с той только разницей, что он знал: нет, нельзя, и не шёл на это, хотя в СССР в Красной армии остались служить два родных его брата (младший брат Н. В. Скоблина был с ними в Париже).
«Я – актриса. Пою для всех. Меня не убьют», – уверяла Надежда Васильевна и себя, и других. Однако, когда в начале тридцатых ей умышленно сообщили, что все её родные, «включая малолетних детей, умерли в голодовку», она сникла и словно окаменела душой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
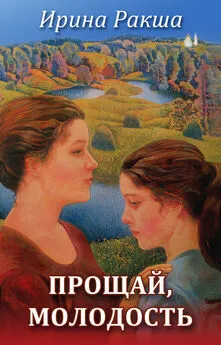
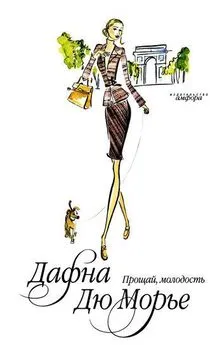
![Михаил Комаров - Прощай, молодость! [СИ litres]](/books/1071696/mihail-komarov-prochaj-molodost-si-litres.webp)