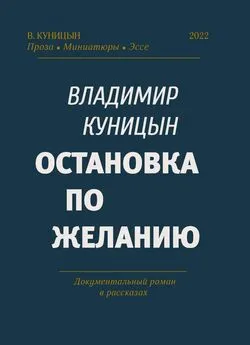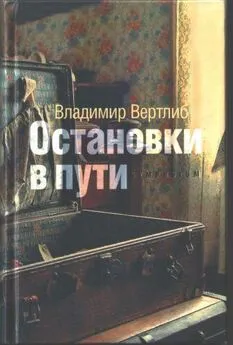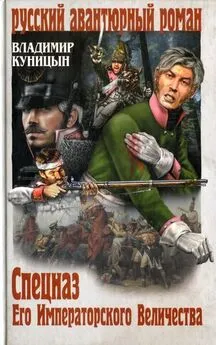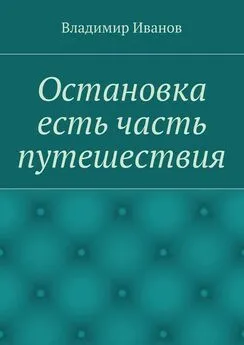Владимир Куницын - Остановка по желанию
- Название:Остановка по желанию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-00170-527-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Куницын - Остановка по желанию краткое содержание
Предисловие к книге Владимира Куницына написано выдающимся критиком и историком классической литературы Игорем Золотусским. А также знаменитым поэтом Иваном Ждановым.
Остановка по желанию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выходить из зала начали почти сразу, по одному, по два, с громким недовольным бормотанием. Выходили и потом, и даже близко к концу фильма, не дотерпев до финала, с нарочито сердитыми комментариями: «ни черта не понятно», «не фильм, а издевательство», «головоломка», «ерунда какая-то». Представляю, как больно было Андрею все это видеть…
Сказать, что я был в шоке, – ничего не сказать. Я был в ярости от презрения к этим «творцам», к их убожеству и неуважению к чужому творчеству! И в ужасе от того, насколько же низок интеллектуальный уровень этой нашей киношной элиты, не способной понять другой, иной киноязык! Ведь среди выходящих я видел и выдающихся кинематографистов, отнюдь не простаков.
Прошло после премьеры более сорока лет, а помню отчётливо до сих пор свою обиду за Тарковского. Конечно, молодой был, резкий, горячий, не отёсанный ещё жизненными компромиссами, но теперь-то понимаю, отчего так разъярился: Тарковского обидели свои, а не чиновники. Свои!
Меньше секунды
Когда натыкаюсь на «старое советское кино» в телевизоре, смотрю, будто под гипнозом, не могу оторваться, сколько бы раз ни видел тот или иной фильм раньше. Так, оказывается, хорошо и основательно снимали при «советском режиме» даже проходные ленты. И главное – сколько психологизма, доброты, честности, ума и таланта в этих фильмах. Даже понятнее стало, отчего наше кино столь высоко ценилось на Западе. И премного наград наполучало там на самых престижных фестивалях! Было за что.
Работая на «Мосфильме» в 1966 году, я встал на учёт в «актёрский отдел» (заявление, фотография), чтобы подрабатывать в массовках. За общий план платили трёшку, за эпизод, хоть и с одним словом, 10–15 рублей. Вокруг этого дела кормилось немало народу. Я это понял, когда на съёмках стали попадаться одни и те же лица. Эдакие типажные, я бы сказал, тётки и мужички. Но встречались и очень хорошенькие молодые девы, мечтающие, чтобы на них – вдруг! – обратил внимание какой-нибудь режиссёр и взял, например, на главную роль в следующей своей картине. Тогда нередко писали, как на улице случайно кому-то предлагали сняться в кино, и – о чудо! – девушка или мальчик сразу становились знаменитыми! Как, скажем, та же Наталья Варлей («Кавказская пленница»).
Короче, иногда сшибал я свои трояки, поднимая «палец в толпе», как говорили сами массовочники про себя.
И вдруг, в 1968 году, когда уже учился в МГУ, благополучно подзабыл про свою актёрскую карьеру, опять позвонили с «Мосфильма» и предложили «сняться» в киноленте «Неподсуден». Видимо, кто-то случайно наткнулся на мою учётную карточку и, как бы теперь сказали, «кликнул» на неё.
Разумеется, я и понятия не имел, что за фильм, кто там снимается, мне был нужен трюльник.
А между тем снимались там «сам» Олег Стриженов, а также Людмила Максакова, Леонид Куравлёв и даже бесподобный комик Алексей Смирнов (моё мнение), сыгравший, как все помнят, того яркого дядьку, которого стегал прутьями по главным мышцам Шурик, приговаривая вещие слова: «Надо, Федя! Надо!»
Нас привезли в аэропорт Внуково, завели в какое-то кафе. Из огромных, сплошь во всю стену окон, как из аквариума, был шикарный вид на взлётное поле, и первым, кого я разглядел, был как раз обожаемый Алексей Смирнов. Он играл эпизодическую роль пассажира. Но и мы, массовочка, должны были изображать из себя пассажиров предстоящего рейса. Наблюдая за Смирновым, из которого просто пёрла самобытность и нестандарт, я осознал, что день удался и без гонорара.
Больше в сцене из звёзд никого не снимали, только Смирнова. Скоро ко мне подошёл помреж и сообщил, что я должен сначала потоптаться вдоль стеклянной стены над лётным полем, а затем затушить сигарету и пойти прямо на камеру, мимо неё, якобы к выходу из кафе. Но только ни в коем случае не смотреть в камеру. Ни в коем случае!
Само собой, проходя мимо камеры, я посмотрел прямо в её растопыренный глаз.
Человек за камерой сказал: «Ладно, обойдёмся без прохода!» Помреж нехорошо взглянул на меня и отправил к окну. Оператор включил камеру, зашумел Смирнов, бурно выговаривая свой короткий текст, я опять закурил (тогда курили и в аэропорту, и в самолётах) и окончательно понял, что актёрская профессия – не для меня.
Конечно, я пошёл на премьеру фильма. И не один. Конечно, ждал «нашей» с великим Смирновым сцены. И когда появилось на экране кафе, встрепенулся: «Видишь, вон там, у окна, спиной, в шапке, это я!» «Где-где?!» – солидарно оживилась подружка, но… было уже поздно. Потом я даже засекал на секундомере, сколько же длился «мой эпизод», но выходило меньше секунды.
И всё же пусть и меньше секунды, но есть и мой вклад в негасимую славу нашего доброго, «старого» кино. Аминь.
Скачущие в небо
Пересмотрел «Бег» по Булгакову. Фильм 1970 года Алова и Наумова. Первый раз видел давно и не оценил. Да вообще картину у нас как-то недорасчухали.
И вот лично для себя будто заново открылось – потрясающие сцены солдатского суда в песчаных карьерах! Боевые сцены как документальные кадры: жёстко, лаконично, страшно. А актёрские шедевры? А Евстигнеев и Ульянов? Чего стоит одна их игра в карты в Париже!
Но всё же особенно поразил «не увиденный» раньше финал картины: по белому снегу скачут фигурки всадников. Кадр построен так, что лес, из которого они вырываются на белый, как свет, простор, словно подводит снизу земную черту, а всадники удаляются от нас вверх-вверх, по диагонали кадра, и вдруг ясно понимаешь: они уходят не по снегу, а по белым облакам, и уходят – в небо, как в вечность! Навсегда.
Какая булгаковская история! Ведь и в «Мастере» подобный же символический уход по облакам – в инобытие. Остаётся лишь восхититься, как режиссёрам удалось увидеть эту булгаковскую концовку и проговорить киноязыком – в конце 60-х, в эпоху тотальной идеологической цензуры, извращённой шкурной трусостью чиновников!..
Мне повезло побывать в 18 лет на съёмках этого фильма. И не раз. В 1966 году работал на «Мосфильме» и в свободное время, снедаемый любопытством и любовью к кино, проникал во все павильоны, где шли съёмки. А к Алову и Наумову заходил вовсе свободно, поскольку в те годы Наумов постоянно бывал у нас дома и запомнил моё лицо.
Тогда фильм имел другое название – «Путь в бездну». Завидев меня, Наумов по-свойски кивал на стул сзади и забывал о моём существовании. А я не верил счастью: прямо рядом со мной, в профиль, сидела… сама Наташа Ростова из «Войны и мира» Сергея Бондарчука и своими по-детски пухлыми губами что-то шептала в ухо Алову, отстраняясь от него время от времени и глядя вопрошающе огромными голубыми очами!
Мне казалось в это мгновение, что нет на свете большего чуда, чем эта молодая женщина, которой было всего-то 24 года! Алов, помню, кивнул, Савельева грациозно, как балерина, протанцевала к выходу между проводов и рельсов. Я успел запечатлеть в памяти её трогательно-женственные, изящно выгнутые ступни в синих туфельках. Подумал с тихим, бескорыстным восторгом: «Бунинские щиколотки!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: