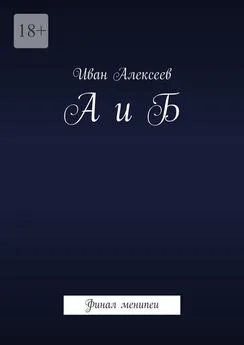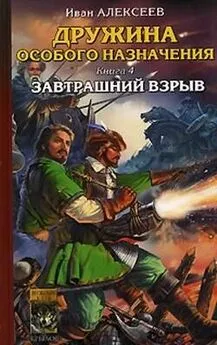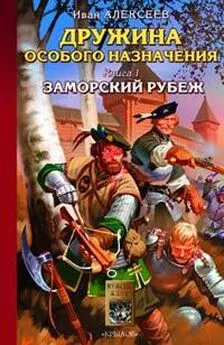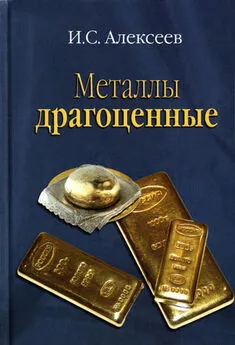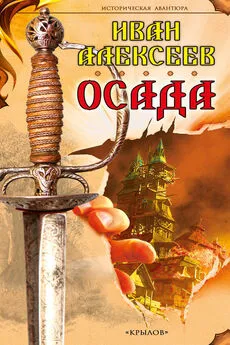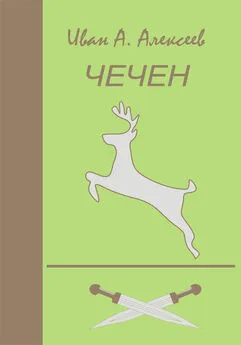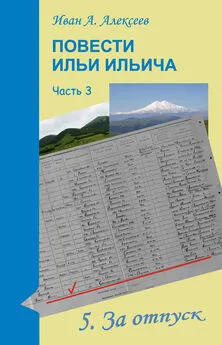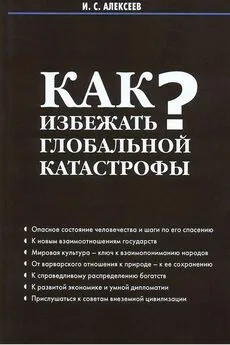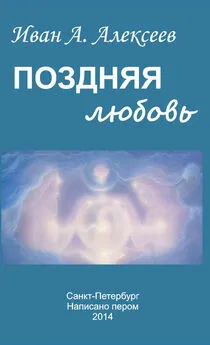Иван Алексеев - А и Б. Финал менипеи
- Название:А и Б. Финал менипеи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005591777
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Алексеев - А и Б. Финал менипеи краткое содержание
А и Б. Финал менипеи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
То есть мне были нужны три-четыре взаимосвязанных повести с эффектом присутствия в каждой из них общих героев, по очереди из повести в повесть передающих друг другу эстафетную палочку главной роли.
Правдивость повествованиям должна была обеспечить хорошо мной освоенная позиция подведения персонажами жизненных итогов. Вдохнуть не воображаемую, а реальную жизнь предстояло по образу и подобию людей мне интересных, которых я хорошо знал и наблюдал в разных обстоятельствах и возрастах. Среди моих знакомств требовалось выбрать длительные, с вероятным знанием подспудного: жизненных целей, устремлений, возможных и выбранных путей их достижения, – без чего психологические портреты героев, да и всё повествование о них повисало в воздухе, готовое раствориться в фальшивой или, как принято ныне говорить, виртуальной реальности.
Из таких друзей-приятелей, после многих уже отданных Белкину и «Светлым историям», вырисовывались три персоны: условные Рылов, Канцев и Дивин. Каждый из них довольно просто списывался из жизни с нужными мне прибавлениями некоторых характерных черт и мыслительных акцентов. Чтобы не путаться в условных и реальных именах при переходах туда-обратно, пришлось воспользоваться удобной белкинской придумкой: в реальных фамилиях изменить или убрать один слог, а имя-отчество поменять местами. Отсчёт повествования следовало вести со знакомства моей троицы, отнесённое на советское время, которое простейшим образом организовывалось заселением в одну комнату общежития молодых специалистов, прибывших по распределению на предприятие оборонной промышленности.
Пока я всё это мысленно прикидывал, подбирая, с кого начать, как буду продолжать и чем завершу, память и некоторые случайности подкидывали мне подсказки в виде огрызков смыслов, сорных словосочетаний и большого количества библейских образов.
«Херувим у сада Едемского». «Иже Херувимы». «Яко да Царя всех подымем». «Бог сидит на херувиме и наблюдает, что творится в Его мире. А херувимы не имеют определённой формы, являясь то мужчинами, то женщинами, то духами и ангелами. Лицо херувима – отроческое».
«Во глубине небес необозримой» представлялись тьмы волнующихся ангелов, летающих серафимов, музицирующих херувимов и безмолвствующих архангелов.
Там же были «огнегривый лев, синий вол, исполненный очей, и золотой орёл небесный» из песни. И обрывок церковного толкования: «Серафим, котораго видел Пророк Иезекииль, есть образ верных душ, кои подвизаются достигнуть совершенства. Имел он шесть крыльев, преисполненных очами; имел также четыре лица, смотрящих на четыре стороны: одно лицо подобно лицу человека, другое – лицу тельца, третье – лицу льва, четвёртое – лицу орла». Лицо человеческое означает верных, подобный тельцу несёт тяжёлые труды и совершает подвиги телесные, льву – кто «исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами». «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, … уподобится лицу орла».
В общем, из этого мусорного безобразия родилось название «почти романного» произведения – «Херувим четырёхликий» – и его построение лесенкой из четырёх повестей-ликов: вопрошающего, бунтующего, зовущего и смиренного. Первый лик – Рылов. Из выбранной тройки героев он был наиболее приспособлен к жизни по правилам и с ограничениями и лучше всех подходил для пролога и роли общего знакомого и передаточного звена. На ступеньку выше него заступил бунтарь Канцев, особенно расположивший меня своими трудами, согласием слов и дел, искренним стремлением не отставать от убыстряющегося времени, мужественным преодолением сваливающихся на него несчастий – и неожиданно быстрым уходом, подгрузившим сердцу непреходящей жалости. На третьей ступеньке оказался старый и близкий приятель, о котором я многое знал и ведал и которому намеревался вложить главные свои мысли и терзания, дабы довести с его помощью действие до кульминации. Претендента на верхнюю ступеньку и эпилог у меня не было. На продиктованный интуицией смиренный лик лучшего всего подходила женщина, но откуда было взять нужную мне? Перебрав второстепенных персонажей и снова положившись на интуицию, я остановился на хоронившей Канцева жене, с которой он, разругавшись насмерть, развёлся и не примирился, несмотря на усилия многих посредников.
Общая композиция с иерархией повестей выстраивалась вроде бы сама собой: вопросы, бунт, зов, смирение, – но когда я спокойно, не замыленным глазом смотрю на результат, то не могу отделаться от ощущения направлявшей меня руки провидения. Ведь по-крупному я не ошибся: всё и все на своих местах. Первое лицо – человеческое. Оно означает верных, живущих в мире, исполняющих лежащие на них заповеди, – это Рылов. Кто «выйдет в монашество, то он подобным становится лицу тельца, потому что несет тяжёлые труды в исполнении монашеских правил и совершает подвиги более телесные», – это Канцев. «Кто, усовершившись в порядках общежития, исходит в уединение и вступает в борьбу с невидимыми демонами, тот уподобляется лицу льва, царя диких зверей», – вылитый Дивин. «Когда же победит он невидимых врагов и возобладает над страстьми и подчинит их себе, тогда будет восторгнут горе Духом Святым и увидит Божественныя видения; тут уподобится лицу орла: ум его будет тогда видеть все, могущее случиться с ним с шести сторон, подобясь тем 6-ти крылам, полным очей. Так станет он вполне Серафимом духовным и наследует вечное блаженство». Но чем не орлица старательно мной подкрашенная и почти идеализированная лучшими женскими качествами Канцева?
Вот уж, действительно: «Когда б вы знали, из какого сора Растут стихи, не ведая стыда…»
Крупных ошибок нет, но неточности в тексте присутствуют. Самая большая, которую хотелось исправить, если вернуть время назад, – эпизод переписывания Дивиным чужого рассказа про Пушкина.
Этот рассказ на старости лет сочинил умница Зазнобин – большой знаток и поклонник поэта и публичный представитель отряда неравнодушных к людских бедам институтских преподавателей из бывших военных, учёных-«технарей» и совестливых гуманитариев, разработавших концепцию справедливого общества. Хороший аналитик и опытный лектор, в искусстве художественного сочинения Владимир Михайлович предстал любителем, не овладевшим писательской техникой. Интересное, с элементами научной новизны, расследование приватной беседы русских императора и главного поэта, о которую издавна точили зубы все, кому не лень, было перегружено разъяснениями и повторами, как у учителя, старающегося научить весь класс, включая двоечников. Вдалбливаемые в читательские головы находки каменели и придавливали живые и трогательные эпизоды, самый памятный из которых был о потере дара речи, когда рассказчик, числившийся среди лучших чтецов в суворовском училище, не смог на уроке продекламировать выученного «Пророка» и только благодаря собственному анализу «чёрного ящика» беседы царя с поэтом, на исходе жизни, смог понять, почему. Дурные описания и некоторые неудачные и неточно расставленные слова ещё больше снижали художественную ценность рассказанного. Раскритиковавший всё это Дивин переписал хитромудрый рассказ, распутав тщательно обдуманные слова, заплетённые между собой не хуже синоптических связей головного мозга, и переакцентировав повествование с беседы Зазнобина с невесть как оказавшемся в нашем времени поэтом на разгадку «Пророка».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: