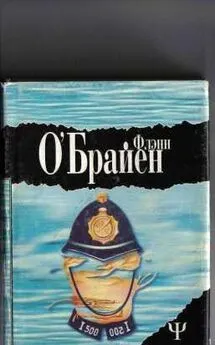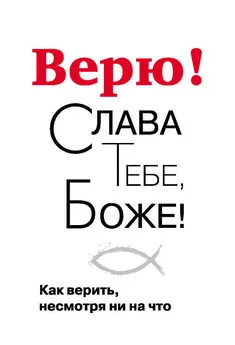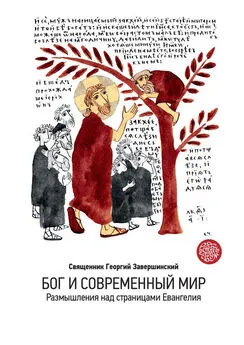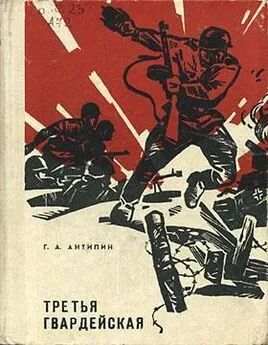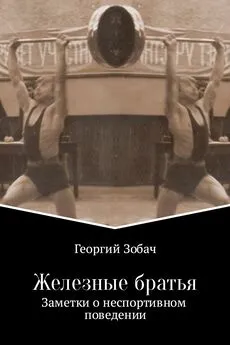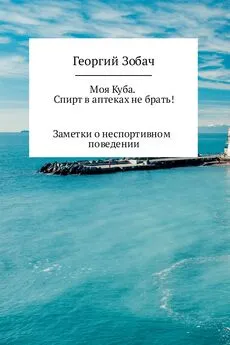Георгий Завершинский - Третий брат
- Название:Третий брат
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-04-118157-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Завершинский - Третий брат краткое содержание
Третий брат - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вдруг не заметил и упустил момент, – Альберт затевал спор и явно чего-то недоговаривал, – а твоего матроса уже многие слушают, тогда чего?
– Чего-чего… – Николай Сергеевич был твёрд в своих убеждениях, – пока у тебя власть – буйным «дать по мозгам» как следует, и остальные успокоятся. Если партия, к примеру, утратит контроль, страна покатится под откос. Жёстко и справедливо, со страхом и уважением – так только и можно.
– Ха-ха-ха, – громко рассмеялся Филонов, – «жёстко и справедливо»! А ежели кому не за дело, несправедливо, как тому быть? Обидеться? Поклониться со страхом и спрятаться? Этот страх потом на всю жизнь, ничего, кроме страха, и не останется. А закон-то ваш, по-моему, для всех, именно чтоб не боялись! А, «месье Робеспьер»?
– Не знаю, о ком это вы, но чувствую, что-то не так…
– Ах-м, бывает и такое, – неожиданно согласился мичман, – бывает, что по правде-то лучше, чем по закону…
Филонов попал на катер совсем не случайно, как могло бы показаться сначала. Присутствие здесь этой странной фигуры стало результатом стечения целого ряда внешне благоприятных обстоятельств. Во-первых, он был писатель, во-вторых, прилетел сюда из Ленинграда, а в-третьих, имел поручение от редакции написать повесть по свежим, так сказать, следам. Его повесть должна была стать для одних своего рода успокаивающим эликсиром, а другим предложить хоть какой-то подходящий ответ на их недоумения и утраченные надежды.
Повесть готовились сразу перевести на японский язык и передать в издательство, которое находилось в Нагасаки, неподалёку от городского порта. С японцами вели переписку, и спустя некоторое время решили, что советский писатель подготовит текст, и после перевода его адаптируют японские коллеги, чтобы книга появилась сразу на двух языках – в Ленинграде и в Нагасаки. А затем в качестве подарка книгу хотели преподнести на встрече в посольстве, чтобы помочь загладить острые углы.
В непростой обстановке после отселения японцев из Северного Сахалина, этот шаг культурного обмена как нельзя лучше мог бы сработать на уровне общего недопонимания и взаимных упреков. И, понятное дело, повесть должна была быть написана так, чтобы семьи японцев, кого собирались «выдворить» с Северного Сахалина, хоть в малой степени получили бы компенсацию, так сказать, своего морального ущерба.
За тем переселением, понятное дело, стояли могущественные военные силы, но всё-таки не мешало подумать и о «тылах». Почти каждый работник японских угольных или нефтяных концессий на севере Сахалина имел дом и семью, о будущем которых надо было подумать не только в плане их устройства, но и в душевном смысле. То есть стоило позаботиться, чтобы отселение из своих насиженных мест воспринималось ими как часть совместной программы, которая не должна оставить обид и недобрых воспоминаний.
Сделать подобное произведение поручили Филонову, который прославился своими опусами на болезненные национальные и классовые темы. К примеру, его последнюю книгу в редакции так и прозвали – «азбука интернационала». Как сумел Альберт Наумович повернуть болезненные национальные вопросы? С присущим ему «пограничным юмором» он задевал самое такое… Казалось, вот-вот проговорится, зацепит нечто больное, и… тогда понеслась – не остановишь! Однако нашему герою всегда удавалось «пройти по лезвию ножа».
Не оставляя шансов самому придирчивому критику, Филонов внезапно выводил героев из безысходного тупика, когда напряжение росло – «бикфордов шнур» стремительно горел, и вот-вот всё было готово взлететь на воздух. Тогда ни главному редактору не усидеть, ни партийным бонзам не избежать… И вот удавалось-таки спустить пар, стравить газ и ослабить канат… Потом «главный», едва остыв от горячки, похлопывая по плечу «виновника», приговаривал: «Эк-ка, брат Наумыч… вырулил ты опять! Но чем взял?! Просто ума не приложу! Талантище…»
Впрочем, о «талантище» довольно быстро забывали за текущими делами, пока не объявлялось что-то новое и, как всегда, авральное. И надо было опять в том же духе, чтобы «ни нашим, ни вашим». Долго не рассуждая, подкатывали к Альберту, а тот и так всё знал – ладно, пишите задание, буду ставить им мозги набекрень, глядишь, и получится. Слово за слово, редактор уже не вмешивался, пока тот не закончит опус, а потом действительно спускали пар. Примерно таким был талант у «бананового посланника» – что ни конфликт, нагнать дыма, и… в полумраке недоговорённых фраз и туманных намёков обойти острые углы, никого не задев. Одним словом, тот ещё был «дипломат».
Кроме уже известных нам трёх персонажей, на палубе никого не было, а в трюме скопилось немало людей, нетерпеливо ожидавших прибытия катера на остров. Истомившиеся от безделья дети возились друг с другом, а мамаши, устав наблюдать за ними, тревожно переговаривались между собой. При закрытых от брызг и холодного ветра иллюминаторах атмосфера была душная.
Не хватало воздуха, и казалось, каждый человеческий вдох забирает последние капли кислорода. Время от времени дверь на палубу приоткрывали, но совсем на чуть-чуть. Холод и сырость извне действовали отрезвляюще – тут же со всех сторон умоляющие голоса просили её закрыть. И правда, после удушливого тепла в трюме было легко схватить простуду, если глубоко вдохнуть тяжёлого морского тумана.
В углу ютились животные. Мелкая, комнатной породы собачка, рыжий пекинес по имени Дуся, надувшись, свернулась клубком и совсем не принимала затеи своей хозяйки. «Куда её несёт: можно ли было домашнее тепло променять на сущий морской ад?! Едва-едва удалось тут пристроиться среди друзей по несчастью. А надолго ли?» – подумала бы она, если бы могла рассуждать. Начисто лишённая этой способности, несчастная Дуся тревожно уставилась в одну точку, согласная на всё, лишь бы когда-нибудь закончились её страдания.
Дусина хозяйка отправилась на Сахалин неожиданно и совсем не по своей воле. В чёрном пальто и повязанном на голове тёмном платке она пристроилась у стены на большом чемодане, затерявшись в полуосвещённом трюме. Алевтина Николаевна Рунова была учительницей и намеревалась, подобно своей питомице, весь век провести в домашнем тепле. Где-нибудь в тихой провинции, строго наставляя шустрых мальчишек и слегка укоряя девочек, растить всех в любви и ласке. Однако тихим мечтам не суждено сбываться, особенно в тяжёлое для страны время. Провинциальную среднюю школу пришлось покинуть, чтобы отправиться в дальнюю поездку на загадочный остров Сахалин.
Привязанная рядом с Дусей кавказская овчарка могла быть сторожевой на одном из военных складов или проводником где-то в экспедиции. Она и здесь тщательно исполняла свою роль – недоброжелательно оглядывала всех вокруг и, угрожающе рыча, готовилась, если бы не намордник, зажать мёртвой хваткой кого-нибудь подозрительного. Хозяина, по всей видимости, рядом не было, и овчарка нервничала. Но далеко отойти на катере некуда – он всего лишь поднялся на палубу. Это был Лапшин, который имел кавказца для охраны в его походах по малоизученным районам острова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: