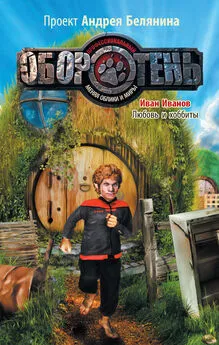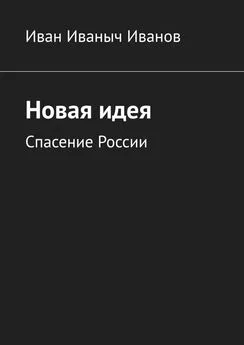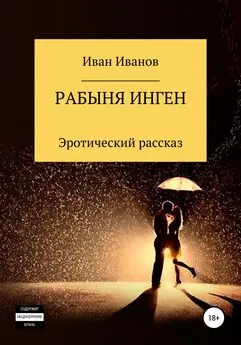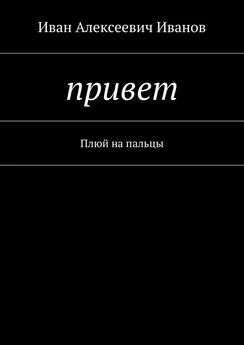Иван Иванов - Трансвааль, Трансвааль
- Название:Трансвааль, Трансвааль
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Иванов - Трансвааль, Трансвааль краткое содержание
Трансвааль, Трансвааль - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По преданию старины далекой, деревня его «деревянная» сложилась из верховских изб, которые в один из вешних буйных паводков были сорваны полой водой с дедовских каменных основ, выложенных из замшелых валунов со следами ледникового периода, и – в добрый путь, по Божьей воле – по-плыли! Вниз по течению, под голосистые распевы огнистых петухов, важно расхаживающих по «конькам» кровель, как живые самовары. Так при спаде большой воды многие строения верховских деревень оказались в беспорядочном скопе на обмелевшей травной луке, между лесными ручьями Огорелец и Крупово – изба к избе. И все «задом наперед друг к другу». Потому так и окрестили новоселы по несчастью свое чудное поселение: «Частова».
Речные переселенцы, видно, огляделись кругом на новом месте да и порешили, что не все для них потеряно. По-над кряжами стоял, на загляденье, строевой лес. И в придачу еще и пойменная лука для сенокосов и выпаса скота. Где еще лучше и краше сыщешь на земле место для жизни?
И вот счастливые речные переселенцы, после всех пережитых страхов, охов и ахов, перекрестились во свое спасение на все четыре стороны, навострили топоры на береговых кремневых каменьях да и принялись отстраиваться: основательно и навсегда. Задористо, друг перед другом ставя духовисто-смолистые пятистенки, рубленые в лапу, с развернутыми окнами на раздольный дугообразный плес. Между нижним перекатом Ушкуй-Иван, с каменным одинцом Кобылья Голова, перед Рыбной Падью и в верховье – Грешневским омутом, обжитым пудовыми усатыми сомищами, прозываемыми в приречье «чертовыми конями».
И что удивительно, по преданию старожилов в третьем колене, делали-то речные переселенцы все путем да по уму. Строя новую деревню, они не порушили и старую на сенокосной луке. Подновили да и оставили впрок для хозяйственной надобности: под каретники и сенные амбары. И веселый березовый бугор Грядка, деливший новую деревню надвое, застолбили для забав душеугодных: поставили качели с отчаянным выносом по-над кряжем на реку, чтобы задорнее визжали девки, гулями возносясь в небо…
К строящейся деревне как-то сразу прижилось и второе ее название, как приложение к «Частове»: Новины.
А когда двухименная деревня мало-мальски обустроилась-обжилась (конечно, это случилось не вдруг и не сразу, на это ушли годы), видно, была кем-то примечена из важных столичных вельмож, заезжих охотников-медвежатников. И по их наущению, уже по царскому Указу была отписана за какие-то государевые деяния во владения дворян. И поныне живет память о том далеком прошлом времени: один край от лесного ручья, делившего деревню надвое, прозывается Козляевским, другой – Аристовским. Правда, в деревенскую бытность случалось и такое, когда жениховатые, «паровые» мальцы, разгоряченные на посиделках или на танцульках под развесистыми березами на бугре Грядка, в соперничестве из-за бедовых невест шли край на край. На чужих же престолах новино-частовские сорванцы с дрекольем в руках ломили одной необоримой стеной.
В лесных угодьях Частовы-Новины сохранилось в людской памяти еще однознаковое обозначение местности того стародавнего времени: «Барская нива», боровое веретье, давним-давно, да и не по первому кругу, заросшее кондовым сосняком. На это, воистину лесное диво природы даже в послевоенный всесветный разор Града Великого не решились поднять топор…
Но вот наступили недавние времена «вседозволенности», люди осмелели духом демократизма и – вперед, ребята! Взяли да и вырубили. И хотя бы на дело, а то ведь «на поддержку штанов», на простое проедание… В деревне покупают в сельпо хлеб, завезенный незнамо откуда, в то время как возделанные когда-то еще топором да сохой нашими дедами и прапрадедами пашни одолевает сорное мелколесье «дикого поля». К тому же еще и варварски захламили неубранностью остатков от бесшабашного лесоповала уже бывшие, воистину храмовые деляны, которые во мстинском приречье прямо-таки боготворили. Обо всех этих творимых безобразиях рыбарю было доподлинно известно из редких писем от дяди-крестного, известного в приречье Данилы-Причумажного.
«Бог ты мой, сколько ж и какого времени прошло с тех пор, как я покинул родные места?» – вдруг накатило на отпускника, исподволь подремывавшего на мягком сидении ночного экспресса, мчащего вспять его прожитой жизни.
Он хотел было смаху окинуть прожитое им свое Время и не смог. Слишком Оно было у него многомерным и не всегда ласковым к нему. Может, потому-то он и зацепился воспоминаниями о деде своем по отцовской линии, Мастаке-старшем, деревянных дел приречья, Ионыче. Заглавном корне родового древа его, Ионы Веснина памяти. Правда, в живе он его не помнил, разминулись они на этом свете в один и тот же день: один пришел в него, другой ушел из него, но по живучей молве деревни знал о нем решительно все! И даже «помнил» говоренные им слова на сельских сходах своим однодеревенцам, еще до его, Ионкиного, рождения: «Путный мужик, сколь бы ни выпил, когда бы ни лег спать с вечера, утром встанет вовремя. С первыми петухами и сразу же берется за дело: в оправдание себе за вчерашнюю промашку».
Или: «Вся дневная работа – до обеда, после обеда – прибавка уже к сделанному. И не более!»
«Ах, деревенька, ты моя – деревянная», – про себя, прочувственно, повздыхал словами поэта отпускник-рыбарь, погружаясь к истокам своей родословной…
Глава 4
День архангела Гавриила
В доколхозное время деревня Новины слыла на всю округу своей нарядностью – затейливыми узорами на окнах и княжьими крыльцами с точеными столбиками и балясинами, распиленными на плашки. И все это было дело рук и выдумки местного умельца-столяра, которого за его мастеровитость новинские аборигены называли только по отчеству: «Наш Ионыч!»
А счет времени как Мастака пошел для него раньше. С его свадьбы, когда он еще в начале века вернулся с русско-японской войны с костылем в руке на постоянное жительство в деревню (до призыва в солдаты он с мальчишества жил в Питере, где прошел большую выучку у мастера-краснодеревца) и сразу же женился на раскрасавице Груне.
Свадьба вышла до того веселой, что на второй год, на именины молодожена-мастера, не сговариваясь, пришла вся деревня со своей снедью и казенкой, дабы не в накладе было гостевание. Да потом так и повелось: день архангела Гавриила прижился в Новинах как бы третьим престолом – после Николы-чудотворца и яблочного Спаса.
Что ж касается своих именин, то столяр и потом не слал селянам личных приглашений, каждый должен был решить сам – идти ему в гости к мастеру или нет, но готовился к ним, надо сказать, всякий раз с замахом на всю деревню. И особенно прослыл, когда основательно укоренился в Новинах большим мастаком варить забористую медовуху, благо мед в ту пору имелся в достатке. В его залужалом просторном саду уже стояло десятка два добротных ульев. Выкрашенные а яркие цвета, чтобы не путались пчелы, они походили на разноцветные кубики, старательно выпиленные послойно из небесной радуги.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
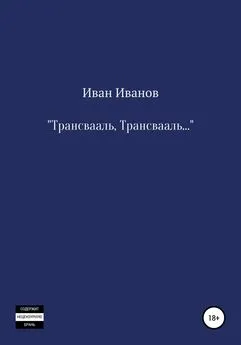

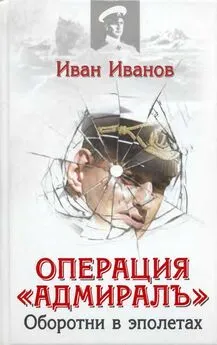

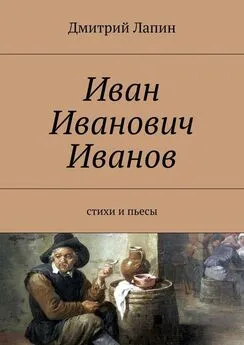
![Иван Иванов - Колдун: Сверхновая [СИ]](/books/1063714/ivan-ivanov-koldun-sverhnovaya-si.webp)
![Иван Иванов - Чумная [СИ]](/books/1063715/ivan-ivanov-chumnaya-si.webp)