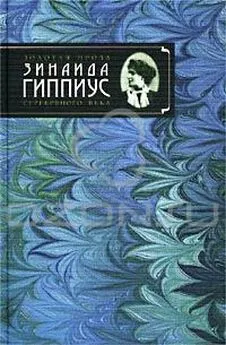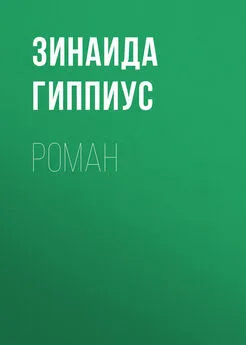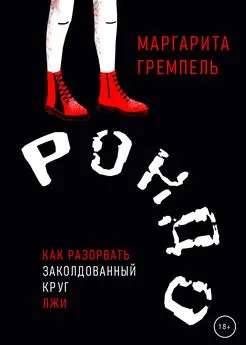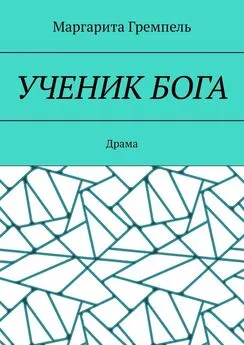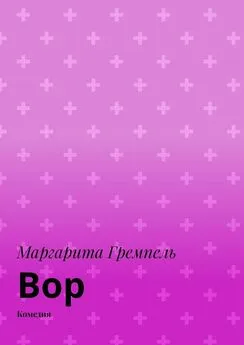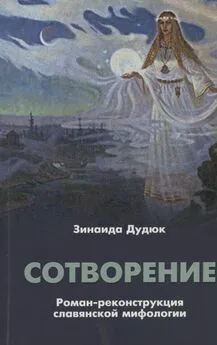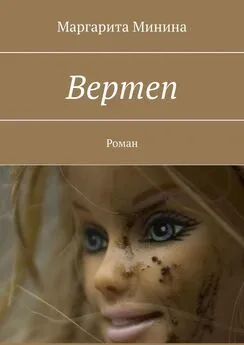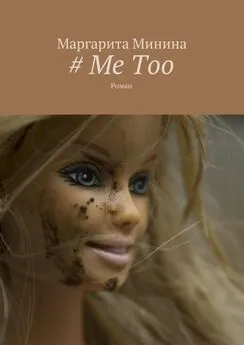Маргарита Гремпель - Зинаида. Роман
- Название:Зинаида. Роман
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005131997
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Гремпель - Зинаида. Роман краткое содержание
Зинаида. Роман - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Да, – говорил отец, – лётчиком ты точно не станешь.
Но он полюбил широкие поля и леса, покрытые густой зеленью летом, а весной – разноцветьем от белого и сиреневого до розового и красного цветущего перелива, наполняясь всеми цветами радуги и оттенками всех проявлений цвета самой природы. Зимой всё село покрывалось снегом, толстым слоем с синеватым оттенком, и плотный тулуп снежного покрова хранил и укрывал бакурскую землю от сильных морозов.
Вовка любил ясли, детский сад, особенно сильно он запомнил детский сад, где была воспитательница – молодая и красивая Людмила Валерьевна, не имевшая на то время семьи и своих детей и отдававшая все нежные свои материнские чувства и часть жизни на воспитание сельских детишек. Вовка иногда по-детски думал и жалел, что у них большая разница в возрасте. Воспитательница ему нравилась так сильно, что если бы он мог сразу вырасти и стать большим, он полюбил бы её, как любят друг друга взрослые люди – мужчины и женщины, хотя он думал об этом не оттого, что знал «взрослую» любовь, а потому что ему так хотелось, через сознание детского восприятия. Его детская душа, уже настрадавшаяся от сложностей в семейной жизни, где он нагляделся на родителей, росла и мужала. Он хотел стать сильным, стать личностью с натурой настоящего человека, закалённого деревенской жизнью, несмотря на то что он был неказистым, слабым, с тяжёлыми последствиями рахита, с ослабленным слухом. Потом ему выставят безжалостные диагнозы гиперметропия, астигматизм, нистагм – это всё относилось к тому, что он от рождения был слабовидящим, и станет быстро очкариком, стесняясь этого и переживая, и долго не будет носить очки и из-за этого больше терять зрение, и оно у него будет падать ещё быстрее.
Но любовь к деревенской жизни, память о её людях, неутомимых тружениках, тёплые воспоминания о Людмиле Валерьевне останутся у него на всю жизнь.
Сами бакурчане, деревенский клуб, куда он бегал много раз смотреть «Неуловимых мстителей», колхозные поля, многие из которых лежали прямо позади домов, и он легко уже различал пшеницу, рожь, овёс, – ему всё это нравилось. Он заходил на середину поля, ложился прямо на этот жёлтый или зелёный ковёр и мог часами глядеть в голубое небо с плывущими по нему облаками. Они меняли свою форму, напоминая ему разных животных или, чаще, корабли и машины. Всё это по отдельности или вместе накладывалось на его память и душу. Оставалось навсегда нескончаемым счастьем и несмываемым впечатлением детского восторга и становилось ключевой чертой характера от силы своего восприятия. Он формировался и становился одновременно жёстким и добрым, порою сильным, а иногда слабым, но не раз Вовка клялся самому себе, что никогда не станет пьющим или нечестным, злым или мстительным или позволит себе забыть когда-нибудь любовь и заботу своей матери, родившей его на просторах малой родины – на бакурской земле.
В одну из зим снег покрыл деревню под самые крыши домов, а некоторые постройки занёс полностью. К несчастью, после таких зим случались сильные наводнения. Но такие зимы сами по себе были по-особому хороши. Это была одна большая сказка, а вид деревни становился проявлением богатой фантазии самого Создателя. Всё гениальное и красивое, о чём уже стал задумываться и Вовка, природа сочиняла и писала сама, где кисть или перо были в руках провидения. И только кому-нибудь это нужно было увидеть, и оно появлялось на бессмертных холстах великих художников: Левитана, Саврасова, Серова или других мастеров гениальных полотен…
Необыкновенное чудо поражало воображение сельчан: пушистые ветви деревьев, сероватый тёплый дымок вился из больших великанов-сугробов, под снегом которых скрылись бревенчатые избы, обогреваемые жаром русских печей, испускавших этот дымок… Как будто всё говорило: смотрите, скоро и этого не будет, всё растает, когда придёт весна, ничто в этом мире не вечно, красота мимолётна, но незабываема в человеческих воспоминаниях, застывшая в памятных образах великих произведений…
Вот в такую зиму Вовка позвал соседа Юрку, сына Сиротиных, ставшего ему другом, прыгать с крыши домов и сараев в огромные сугробы, и через час они стали мокрыми до последней нитки. Сушиться пошли к Вовке. Иван не жалел угля, топил много: антрацит был на заводе главным топливом, он брал его сколько хотел. Одно плохо, что печь у них была слабой, места занимала много, но никогда не нагревалась так, чтобы рука не могла терпеть, если её приложить в зале или в спальне, куда выходили боковины и углы печи. Известный в деревне печник, которого вызывали, чтобы он чем-то помог, обычно долго возился с печью Шабаловых, потом беспомощно разводил руками и предлагал сложить печь заново, по-другому, как у Дуни, а он клал и у неё такую же русскую печь, и топили её дровами да кизяками, а не антрацитом. Жара была несусветная. А на самой печи можно было лежать и лечить радикулит. А какие щи да каши запаривала Дуня – не пересказать словами, а тыква из печи, когда приходили Иван вместе с Зинаидой и Вовкой, чтобы погреться в сильные морозы, была необыкновенным лакомством: она становилась коричневой и сладкой, как конфеты ириски, что особенно любили Вовка и подросший внук Дуни Женька.
Пока Юрка и Вовка сушили мокрые штаны и куртки, вздумалось им поиграть в резиновый мяч, и, на горе Вовки, попали они в будильник, что стоял на лепной подставке, висевшей пока на временном месте на стене, на одном вбитом гвоздике. Таких подставок-лепнин, похожих на работу эпохи Возрождения, у Ивана было много, в каждой комнате не по одной. На каждую из них Иван старался поставить фигурки красивых женщин, иногда полуобнажённых, а на одной уже стоял Тарас Бульба, привязанный к дереву и охваченный пламенем огня, с реальной достоверностью описанных Гоголем событий. Огонь, конечно, был ненастоящим, в керамическом изваянии. А будильник, что упал и разбился, был настоящим, простым и дешёвым и стоял на этом месте только потому, что Иван ещё не приобрёл и не подобрал достойного персонажа, который понравился бы ему, когда он поставит его туда, где будет видеть красоту и испытывать душевное удовольствие.
Иван пришёл домой в этот день необычно рано – конечно, это было случайностью, он не приходил никогда в это время. Всё сложилось не в пользу Вовки: и разбитый будильник, и раннее появление отца, и мокрые от снега штаны; и то, что будильник сбил не он, а Юрка, не меняло ситуации в лучшую сторону, ведь разрешил играть в мяч в своём доме Вовка…
Иван выпроводил Юрку домой. А Вовку, своего родного сына, держа одной рукой сзади за шею, стал хлестать ремнём, который снял прямо здесь со своих брюк. Брюки спали с него, сложившись до колен в гармошку, а выше колен его бёдра закрывали длинные, синие, из ситца, семейные трусы, какие продавались тогда в магазине или шили ему портнихи Тоня с Фросей, и тогда часто добавлялись к синим по цвету ещё и чёрные трусы. Иван жестоко порол своего сына по голой спине, ягодицам, ногам, задыхаясь от злости. Вовка сжимал зубы и вспоминал строки из повести «Тарас Бульба», которую читал ему недавно сам Иван, где отец говорит сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью!» У Вовки мелькнула мысль, что отец невзначай может запороть его насмерть, потому что в один из ударов он чуть не потерял сознание. Он мучительно переносил хлёсткие удары кожаным ремнём, а у Ивана всегда были добротные ремни из настоящей кожи, хорошие и крепкие, хоть вешайся на них, как любил говорить он другим. На войне в рукопашном бою он задушил таким же ремнём фашиста и этим иногда хвалился сыну. Вовка не кричал, не рыдал, не просил пощады, потому что уже не в первый раз отец учил его так жизни, но сдержать слёзы, которые сами катились из глаз, он не мог…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: