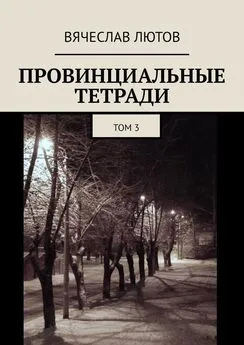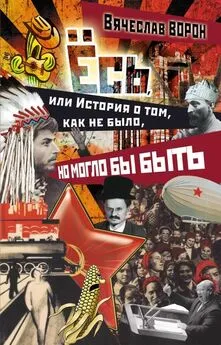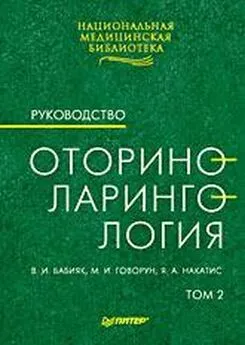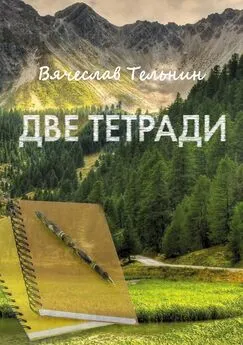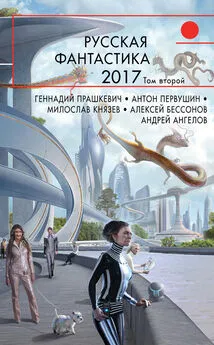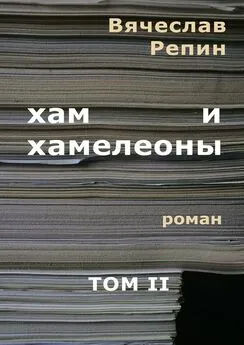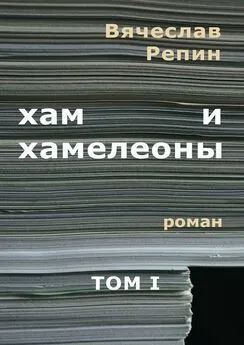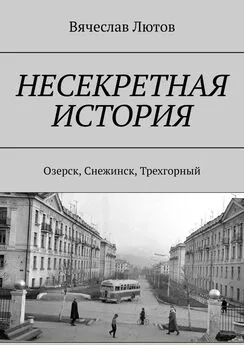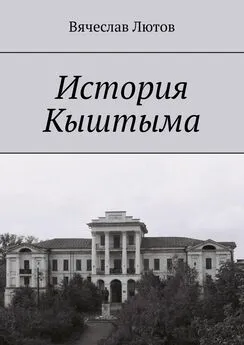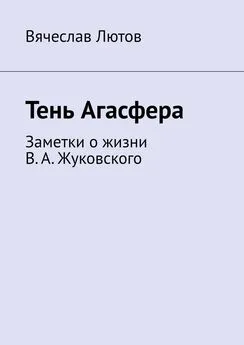Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 3
- Название:Провинциальные тетради. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449872296
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 3 краткое содержание
Провинциальные тетради. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
« Друг мой! Не презирай баснословия! Басня и притча есть то же. Не по кошельку суди сокровище, праведен суд суди. Басня тогда бывает скверна и бабья, когда в подлой и смешной своей шелухе не заключает зерно истины, похожа на орех пустой ».
Этот «забавный и фигурный род писаний» был любим и древними философами, мудрецами, и учениками Христовыми, апостолами. Сковорода повторит это не раз и даже определит суть «метода»: « Мудрые и в игрушках умны и во лжи истинны. Истина их острому взору ясно, как в зеркале, представлялась, а они, увидев живо живой образ истины, уподобили ее различным телесным фигурам ».
Лавр и зимой зелен; истина, заложенная в басне, не тускнеет и просторечная грязь к ней не прилипает…
Уже немало сковородинских басен было рассказано, рассыпано по нашему жизнеописанию. Обращение к басне – не просто выбор жанра, литературной формы. Бумага как благодатное поле, которое рождает и пшеницу, и рожь, и гречиху. Все произрастает из зерен священного писания; и это поле всю жизнь возделывал Сковорода. Все переплелось в его сочинениях: символический мир Библии и символический мир басни есть то же.
«Библия есть для Сковороды именно книга философских притч, символов и эмблем, некий иероглиф бытия», – писал в «Путях русского богословия» Г. Флоровский, определяя «перемешанный» философский мир Сковороды в «категориях платонизирующего символизма». О символизме как характерной особенности метафизики Сковороды говорили в своих очерках Д. Чижевский и В. Эрн. Немного сдержаннее на этот счет оказался В. Зеньковский – он хотя и признал наличие у Сковороды «символизма в онтологическом смысле», все же определил страсть философа к символам как «манеру мыслить», как особенности слога.
Впрочем, каковы бы ни были оценки, сам Сковорода смотрел на символизм именно как на особый мир, «тайнообразный мир», «маленький богообразный мир, или мирик». Он для философа являлся одной из бесспорных основ метафизики. В конце концов, библейский символизм, аллегоризм оформит систему «трех миров», которая войдет во все классические интерпретации творчества Сковороды.
« Первый /мир/ есть всеобщий и мир обитательный, где все рожденное обитает , – писал Сковорода в диалоге „Потоп змиин“. – Сей мир составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры. Первый – микрокосм, сиречь мирик, мирок или человек. Второй мир символический, сиречь Библия. В ней собраны небесных, земных и преисподних тварей фигуры, дабы они были монументами, ведущими мысль нашу в понятие вечной натуры, утаенной в тленной так, как рисунок в красках своих… »
Сковорода и сам «рисует» Библию, и она меньше всего походит на книгу в кожаном переплете с медными застежками. Он ищет «фигуру Библии», и чаще всего называет ее Сфинксом, тайну которого и блаженную радость может узреть лишь познавший себя. В «Баснях харьковских» Библия предстает в образе спящего льва, вокруг которого носятся обезьяны – «восставшие идолопоклонничьи мудрецы» – носятся до первого львиного рыка.
« Библия есть завет, запечатлевший внутри себя мир божий… она как заключенный сундук сокровища, как жемчуга мать », – пишет Сковорода. А затем, вспоминая «предревних богословов», повторяет свою любимую мысль, говоря об их умении « невещественное естество божье изобразить тленными фигурами, дабы невидимое было видимым ». Стоит ли удивляться, что сковородинское восприятие Библии было названо «системой кодов и знаков», а в его творчестве неизбежно определились «семиотические элементы».
Между тем, ограничиться лишь «семиотическими маркерами» на полях философского творчества Сковороды было бы ошибкой. По сути, аллегорический мир – это далеко не прихоть Григория Варсавы. Он семиотичен по определению – как семиотична сама эпоха. Отсутствие собственно философской терминологии, по словам В. Зеньковского, отчасти оправдывает Сковороду за его пристрастие к символам – роль научного термина в суматошную эпоху становления русской мысли могла сыграть лишь аллегория.
Вообще, ХVIII век исполнен символами повсеместно; религиозное, богословское, философское и даже «светское» мышление обращается с символами, как истопник с дровами – и чем больше, тем жарче. Пристрастие к знакам тревожило умы. Сам Сковорода, как пишет Ю. Барабаш, еще в юности прослушал в академии философский курс М. Козачинского, где был раздел «О знаках». Скорее всего, Сковорода был знаком и с «Миром символов» Пичинелли, и с петровским изданием «Символов и эмблем». К слову, большое количество «знаковой» литературы принес конец XVIII века с его тотальным увлечением «символичной философией» – хотя бы в виде «масонской культуры».
Как бы то ни было, символичный, «третий» мир Сковороды – это не издержки индивидуального творческого метода. Это особый «образ эпохи», ее голос, мантры, видения, угол зрения. Обойти этот мир стороной Сковорода не мог – как не смог, к примеру, обойти критику чистого разума русский философский Ренессанс…
Свитка и посох
История, как это ни парадоксально, не слишком бережно относится к судьбе человека, путает даты и факты, подчас стирает их подобно тому, как из памяти компьютера удаляют ненужные файлы и программы. Но образ человека, украшенный всевозможными байками и легендами, для нее все же ценен, притягателен. Биограф, призванный быть беспристрастным, и тот зачастую воспринимает судьбу своего героя импрессионистически. Что ж, в этом есть определенная красота – обычно-человеческая, по меньшей мере.
Во многих домах на Украине висели копии с портрета Сковороды. Вот он, с острым носом, темноволосый, со стрижкой «в кружок», под шапочку, с гладким, почти юношеским лицом, на котором нет ни одной морщины, словно художник нарочно задался целью не подпускать к Сковороде время. Неизменна в народном восприятии «атрибутика» Сковороды: посох странника, серая свитка, сапоги про запас, несколько подшивок работ, Библия, его «невеста», и флейта.
Странник – странный человек. Стоит ли удивляться, что имя Сковороды быстро обросло легендами, преданиями? Оно мифологизировалось – еще при жизни философа, – дополнилось новыми «фактами» и «деталями»; его примеривало массовое сознание к обычным ценностям обычной жизни.
Именно мифологическое сознание, переплетенное с «эротической прозой» человеческой жизни, попытается Григория Варсаву женить. И. Срезневский в своем рассказе «Майор, майор!», этом пыльном раритете начала Х1Х века, выписывая образ русского Сократа, приведет совершено романтическую историю любви. На одном из хуторов, будучи в гостях у некоего майора, Сковорода безумно влюбился в его дочь Елену и настолько потерял голову, что был готов немедленно жениться. Не смутило рассказчика даже то, что Григорию Варсаве к «моменту этой истории» шел уже пятый десяток – совсем не тот возраст, чтобы впадать в подростковый инфантилизм. Да и основные философские взгляды на мир и на вещи в эту пору у него сложились, и дочь майора в эту систему не вписывалась.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: