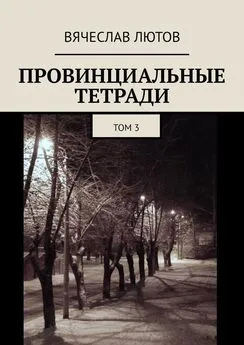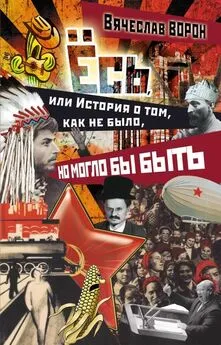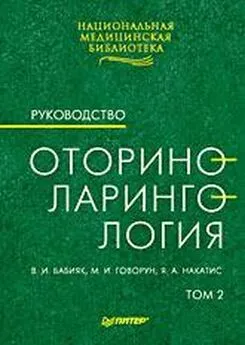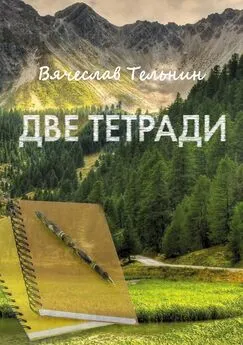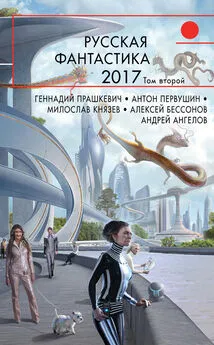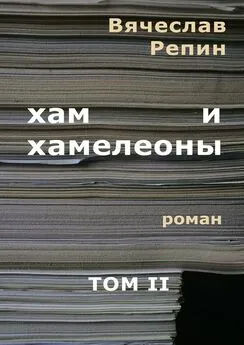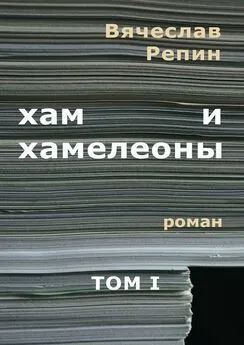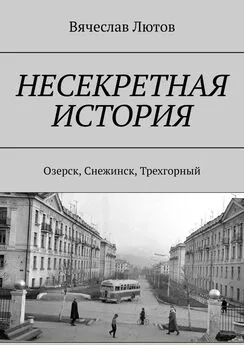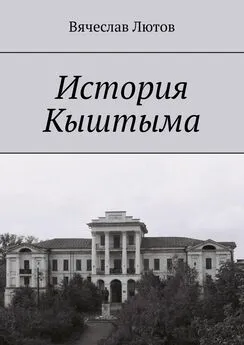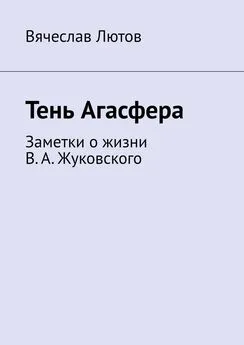Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 3
- Название:Провинциальные тетради. Том 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785449872296
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Лютов - Провинциальные тетради. Том 3 краткое содержание
Провинциальные тетради. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таков род его занятий. И если Сковороду, по словам Ковалинского, лишь немногие знали таким, какой он есть на самом деле, то глубину его работы чувствовали и связывали с уникальным русским явлением религиозной жизни – старчеством. Тот же И. Срезневский, напечатавший свою повесть в 1836 году в «Московском наблюдателе», «придумает» примечательный диалог:
– Что же, – спросил Сковороду майор, – ты хочешь век остаться бродягой?
– Бродягой – нет, – ответил Сковорода. – Я странствую, как и все, и старцем навсегда останусь ; этот сан как раз по мне…
Старчество становилось ключевым в восприятии образа Сковороды-странника.
«На Украине, – рассказывает А. Хиджеу в „Сковородинском Идиотиконе“ (В. Эрн назовет эти разъяснения „драгоценными“), – ведется особый, почти наследственный цех нищих, называемых старцами. Они пользуются большим уважением у простого народа и сами отличают себя от обыкновенных нищих-дедов и Жебраков. Это люди бывалые, носители народной мудрости. Я был свидетелем спора двух старцев. Я старце, а ты-то какой-нибудь найденыш… И теперь поселяне часто ссылаются на суд старцев, и в некотором отношении их можно бы назвать бродящими судьями Мира ».
Со Сковородой это суждение соотносимо, но ничуть не до конца, чтобы ставить итоговую точку.
«Отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую послушанием, и достигаю тем, с помощью божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного». И эти наставления старца Зосимы соотносимы со Сковородой лишь отчасти. А «старцы» Достоевского, «берущие вашу душу и вашу волю в свою душу и свою волю» – не соотносимы вовсе.
Мемуаристы рассказывают, что Сковорода имел большое влияние на людей, мог укротить даже крайне вспыльчивый нрав. В своих письмах, если с кем успеет подружиться, он жаждет беседы, наставляет, утешает и вдохновенно проповедует Христа. И не только в письмах. «Он был жарким собеседником и красноречивым оратором, – пишет В. Эрн, – умел незаметно входить в разговор, пересыпая речь шутками, брать нить беседы в свои руки и делать ее неожиданно значительной и памятной».
«Простой народ был ему ближе, ибо из него он вышел и к нему возвратился», – продолжает Эрн и цитирует философа: « Барская умность, будто простой народ есть черный, кажется мне смешной, как умность тех названных философов, что земля есть мертвая. Как мертвой матери рождать живых детей? И как из утробы черного народа вылупились белые господа? »
О простонародном образе жизни пишет и Ф. Лубяновский: «Страсть его была – жить в крестьянском кругу. Любил он переходить из слободы в слободу, из села в село, из хутора в хутор. Везде и всеми был встречаем и провожаем с любовью, у всех он был свой. Хозяин дома, когда он входил, прежде всего, всматривался, не нужно ли было что-либо поправить, почистить, переменить в его одеянии и обуви: все то немедленно и делалось. Жители тех особенно слобод, где он чаще и долее оставался, любили его, как родного. Он отдавал им все, что имел: не золото и серебро, а добрые советы, увещевания, наставления, дружеские попреки за несогласия, неправду, нетрезвость, недобросовестность».
И все же странствующим «народным философом» Сковорода не стал. Непонимание и сам чувствовал. « О мне говорят, что я ношу свечу перед слепцами, а без очей не узреть светоча; на меня острят, что я звонарь для глухих, а глухому не до гулу: пускай острят. Они знают свое дело, а я знаю мое и делаю мое, как знаю, и моя тяга мне успокоение… »
В начале Х1Х века станет популярным еще одно суждение о Сковороде. Словно подводя итог досужим разговорам, товарищ И. Срезневского Орест Ивецкий выступит в 1831 году в «Телескопе» с письмом по поводу Сковороды: «Он есть отпечаток настоящего малороссийского юродивого , которых не столь удачные осколки можно встретить в этой стороне довольно часто. Однако ж он нередко терял и этот свой первообраз и доходил состояния, в коем, по пословице, ум за разум заходит…»
Все переплелось, перемешалось в Сковороде – и это к лучшему.
Сковорода вошел в русское старчество, но старцем не стал. В нем год за годом укреплялся аскет, но не укреплялся инок. Он был народен и вместе с тем странен для народа. Он ходил нищим странствующим мудрецом, но в «мандрованных дядьках», которых так много было на Украине, не растворился. Мир похвалил его за сумасшествие – благо, что не поймал.
Кто он, старец Григорий Варсава?..
Сковородинские тени
« Что такое жизнь? – спрашивает Сковорода. – Это странствие: прокладываю себе дорогу, не зная, куда идти, зачем идти ». Много позднее Лев Шестов повторит, что человек должен научиться жить в неизвестности. Именно неизвестность была и остается прерогативой свободного человека.
Сковорода был удивительно свободен – и в жизни, и в мысли. Эту свободу ставят во главу угла творчества философа и В. Эрн, и В. Зеньковский, и целый ряд исследователей. Эта свобода, и, прежде всего, свобода религиозная, не может не пленять, не завораживать, не будоражить воображение биографа, чья жизнь течет между книжным шкафом и экраном монитора на рабочем столе. «Дух свободы имеет в Сковороде характер религиозного императива, а не буйства недоверчивого ума», – пишет В. Зеньковский и называет его свободным церковным мыслителем , который всегда чувствовал себя членом церкви, но твердо хранил свободу мысли. «Всякое стеснение ищущей мысли казалось ему отпадением от церковной правды».
«Философствование во Христе» в пику «мудрствований мертвых сердец» будет воспринято более чем неоднозначно. Со «спящими на Библии церемонистами», упрекавшими Сковороду в ереси и богохульстве, – дело понятное и уже нам известное. Их не могло устраивать, что философ не принял обычных «условных церковных схем», какие нивелируют пытливые умы, а вместо того, «прикрывшись Библией», принялся мыслить по-живому, что у многих перехватывало дыхание от его резких суждений.
Совершенно иной разговор о тех, кто если и не назвал Григория Варсаву «расколоучителем», то как минимум записал его в сектанты.
В 1912 году в Петербурге вышло собрание сочинений Сковороды, вышло в весьма примечательной серии: «Материалы к истории и изучению русского сектантства и старообрядчества». Этим подводился итог достаточно распространенному мнению о сектантской душе Сковороды.
В. Бонч-Бруевич, готовивший это издание, сообщал в одном из писем (цит. по Ю. Барабашу): «Когда я занимался изучением древнего сектантства в России и очень подробно изучал все устные и письменные записи духоборцев, то я натолкнулся на целый ряд положений, которые были взяты из сочинений Сковороды. Кроме того, видно, что у них сохранилась память о старчике Грише, который был „полного разума“. Имейте в виду, чтобы получить от духоборцев наименование „полный разум“, надо быть особо выдающимся человеком. За всю долгую историю они этим именем называли всего пять человек».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: